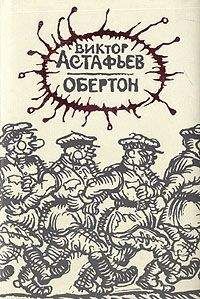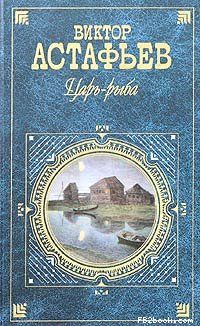— Надо, так выплесни, — нехотя разжала она рот. — Хлеба и соли у меня нету.
Я с отвращением выбросил таз в бурьян, распахнул дверь хаты, на грязном столе застелил угол вещмешком. Выложил хлеб, соль, говяжьи консервы — свой паек Ермила с Кирилой не съели и до половины, торопясь к своим возлюбленным. Сахарок да банку с повидлом я оставил в доме Барышниковых — для Вовки, все остальное собрался тоже оставить, но Вадим Петрович и Лариса сложили добро обратно в мой вещмешок, сказав, что они при доме, при хозяйстве, а мне солдату — предстоит путь-дорога.
При виде еды хозяйка воспрянула духом, маленько прибралась, ела торопливо, обжигаясь картофелью. Я вымыл свой котелок и вскипятил чаю, наломав в него одичавшего в саду смородинника, выбрал из сена сухие стебли мяты и зверобоя.
Хозяйка и чай пила охотно, по-ребячьи причмокивая. Согрелась. Отошла, разговорилась. В основном переселенцы из Мордовии живут, точнее, жили в этом селе с названием странным, завозным — Подустонь. Было здесь отделение совхоза «Жовтень», но в войну и сам «Жовтены», и отделение его были разграблены, разбиты, село сплошь выгорело. Мужиков-переселенцев, которые не ушли с Красной Армией, немцы заставили служить в полиции, баб — работать на свекле. Муж хозяйки и старший сын состояли полицаями, и советские каратели их расстреляли. Младших еще двое, не знает, где они, — может, на трудработах, может, в тюрьме. Хату эту крайнюю грабили все кому не лень, да и грабить-то особо нечего: что велось в хозяйстве — куры, овцы, корова, швейная машинка, инвентарь, одежонка, — все пропили отец с сыном еще до прихода оккупантов. Хата на отшибе, потому и не сгорела.
Совхоз «Жовтень» — ныне зовется «Победой» — привлекает к работе всех, кто может двигаться. И ей велено привлекаться, да суставы у нее болят и нутро хворое: бил ее муж и сын бил, случалось, палкою бил бригадир — он при Советах начальствовал и при оккупантах старшим полицаем состоял. Немцы? Нет, немцы не били ее и не пользовали. Червоноармейцы тоже не били, но пользовать пользовали: на отшибе живет, кричи — до кого докричишься?
Помереть бы поскорее, отмучиться, да где-то заблудилась ее смерть.
Что-то вырвало меня из сна, подбросило с подстилки. Я схватил топор, с вечера положенный в головах, под солому, и не сразу понял, где я и что за красный свет ворочается в хате. То разливался он огненной волной до углов хаты, то мелькал в квадратиках как попало застекленных рам, то проваливался в заоконье, выхватывая из ночи ветви деревца, дрожащие на нем последние листья и несколько яблок, вроде бы игрушечно вертящихся, сверкающих в просверках издали мелькающего огня. За стеной хаты храпел и рвался с привязи жеребец. В проеме дальнего окна маячила фигура хозяйки, с завыванием бросавшей кресты на грудь:
— О, Господи! Го-осподи-ы-ы-ы! Милостивец ты наш и вседержитель! Когда же эта проклятая война кончится?
— Она уже кончилась. Не накаркивай! — обуваясь, взревел я испуганно и сердито.
— Вон, смотри! — отодвинулась от окна хозяйка.
— «Победа» горит! — ахнул я. — Совхоз горит!..
— Совхоз.
Я набросил на плечи шинель со вдетой в нее телогрейкой, которыми укрывался, схватил вещмешок с изголовья и, на ходу его завязывая, бросился из хаты. В это время грохнулась вовнутрь дверь вместе с деревянной заложкой и с улицы раздалась команда:
— Назад! Всем к стене лицом!
Я бросил вещмешок на голос, отпрянул от двери, упал на пол, катнулся к топору. Успел еще заметить, как хозяйка, трудно поднимая неразгибающиеся руки, покорно становится к стене лицом.
Хату, хозяйку, меня, прижавшегося в углу с занесенным над головой топором в руках, осветили пятнышком света.
— Спокойно, солдат, спокойно! — В хату ступили двое военных, держа наизготовку автоматы. Второй военный тут же спятился, вышагнул за порог и остался в проеме двери.
— Где же вы раньше-то были?!
— В другом месте были.
— Не поспели? — засветив лампу, выкладывал я на стол документы перед лейтенантом, с головы до ног устряпанным грязью. — Все-то мы опаздываем, всето у нас делается не к месту да не к разу, — корил я военного.
— Не поспели, солдат. К сожалению, не поспели, — просматривая мои бумаги, вздохнул лейтенант. — Не скули. Не до тебя.
— Что там? — кивнул я на окно, хотя ответ уже знал заранее, боялся его, но надеялся ошибиться, на чудо опять надеялся.
— Худо, солдат, худо. Совхоз, урожай — все сожжено.
— А люди? Люди-то хоть спаслись, убежали?
— Никто. Ни одна душа не спаслась. Ночь же. Все спали. Все перебиты… Директора с семьей подперли в дому и сожгли живьем.
— И Вовку?! — вскрикнул я. — И малыша?!
— И малыша.
— И девчонок?
— Фрицевских подстилок изнасиловали и тоже перебили, сколько-то увезли с собой в лес. Про запас. И лошадок твоих угнали… — возвращая документы, снова вздохнул лейтенант. — Утром мы эту падаль зажмем в лесу. Они и лошадок перебьют, и девок истребят… Совсем осатанели. Ты вот что. До рассвета никуда. Всюду наши патрули по дорогам и селеньям — еще застрелят, не разобравшись в потемках. Пароль: «Прибой». Ответ: «Жасмин». Если не ответят, значит, под видом патрулей расползаются по углам оборотни лесные. Топчи их лошадью и скачи дальше. Оружие выдать, к сожалению, не можем. — И еще раз осветив хату фонариком, покрутил головой: — Ну и берлогу ты себе выбрал! — и уже с улицы крикнул мне: — Домой подавайся! Домой!
«Сидите по селам! Самогонку жрете! — хотелось заорать мне. — Потом „Жасмин“ вам! Домой скачи!» Вовка! Во-о-овоч-ка-а! — успевший сказать миру всего четыре слова, и няня, и мама его Лариса, и добрейший Вадим Петрович, так явственно напоминавшие мне защитников Белогорской крепости и разделившие горькую их участь через сотню лет… Милые мои! Мученики русские. Да когда же судьба-то будет милостива к нам? Ведь совсем недавно, вчера вечером, сидели, гутарили, мечтали о будущем — и вот… Да неужели это правда? Изабелла, бедная девчонка! Небось терзают тебя в лесу, галятся над тобой пьяные самостийщики?.. За чьи же это грехи тебе такие муки? Разве для этого предназначено было тебе родиться, выжить? Люди! Люди! Разве мало вам того моря крови, того моря слез, что мы пролили за войну?
Мимо хаты в заросшую на всполье дорогу прошел бронетранспортер, легкая самоходная пушка, несколько крытых машин с солдатами, молча курившими или дремавшими под брезентовым тентом.
Утром, еще по росе, я выехал из селения Подустань и услышал за полями, за обрезом земли, на котором исходным дымом курился совхоз, как гулко ударила раз-другой пушка и донесло издалека звуки разрастающегося боя.
Неспорым шагом ехал я по обочине дороги, сбивая росу с наклонившихся колосьев и кустов, и не чувствовал холодного мокра, глядел, как восходит солнце в той стороне, где утихала стрельба, как плавно и мирно кружится над холмами птица, орет просыпающееся жадное воронье, рассаживаясь по скирдам, как табунки щеглов и овсянок с треском, будто трассирующие пули, разлетаются во все стороны перед конем.
«Господи! — стоном стонало мое сердце. — Если ты есть, как же ты допускаешь такое? Неужто люди натворили так много худого и страшного, что ты нас уже не прощаешь; или не поспеваешь за нами, говноедами и зверями, углядеть? Но ты же вездесущ! До какого предела, до какой черты ты нас допустишь? Иль кара твоя справедливая уже свершается повсеместно? Но Вовкуто, Вовку-младенца за что, Господи-ы-ы?!»
Я два или три дня лежал в конюховке пластом. Слава Каменщиков отнес на демобилизацию мои документы в штаб части, сдал их, принес еды и бутылку водки. «От самого Котлова!» — сообщил он. Страшная весть уже достигла и Ольвии. Майор Котлов не велел меня трогать, приказал даже выдать какие-то деньги — за командировку. Работы у почтовиков не стало. Река писем иссохла, лишь вялые ручейки заносило еще в пустующий, гулкий зал сортировки. Многие письма уже ехали вдогон солдатам и офицерам, отпущенным по домам. Те письма, у которых не было обратного адреса, актировались и сгорали в костерке за зданием начальной школы. Ветер разносил огарки страниц по косогору, на тех огарках все еще жили, разговаривали с отцами, матерями, братьями и сестрами, с невестами и женами, с заочными симпатиями люди русской земли, посылали еще ответы от мертвых к живым и от живых к мертвым.
Я купил на командировочные деньги водки, пил с друзьями и без друзей, пил до бесчувствия. Убегал за Ольвию, в поля и кричал, кричал в сторону совхоза «Победа»:
— Во-о-овка! Вовочка-а! Отзовись! Покличь дядю! Беллочка! Простите нас! Простите меня-а…
Майор Котлов признал белую горячку, дал приказание привязать гуляку к койке. Когда я отошел, командир и отец наш велел мне сходить в баню, после чего провел со мной личную беседу с упором на то, что война горя породила много, его ни слезами, ни вином не зальешь! Что нельзя мужику раскисать. В данной ситуации следует рукава засучить — и за дело браться. И назначил меня с реденьким уж отрядом солдат помогать восстанавливать опытную овощефруктовую семенную станцию, необходимую сельскому и народному хозяйству.