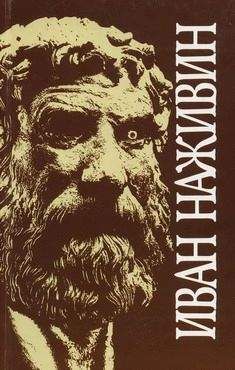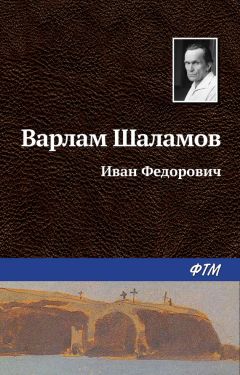белая пена. В глазах её поднимается волна паники, от которой старая Грета умолкает, обмякнув на кровати. Наступает тишина, в которой слышен только нескончаемый шум дождя, смывающего с земли грехи человеческие.
– Вальтер… – произносит Хильда одними губами.
– Беги! – взвывает старуха. – Беги! Доченька, беги–и–и!
А Хильда уже метнулась к двери и выскакивает на крыльцо.
– Вальтер! – кричит она, но дождь не дает её голосу отлететь и на метр – тут же прибивает его к земле тяжелыми, как дробины, каплями. – Сыно–о–ок!
Она сбегает с крыльца, всматривается в серую пелену, стирает с глаз мешающие смотреть капли, вертится на месте, озираясь по сторонам, но взгляд её не может проникнуть сквозь стену бушующего ливня. Волосы её промокли и свисают жалкими верёвками на плечи, липнут к лицу.
«А вода поднялась ещё на палец!» – с тоской отмечает она, когда спускается вниз и видит торчащую из омута веху.
Потом взгляд ее падает туда, где едва различимы вдалеке контуры противоположного холма и стоящей на нём церкви. И она видит Вальтера. Мальчик идёт по воде – слабое, почти не различимое в сетях дождевых струй пятнышко. Она бросается за ним, но едва ноги её погружаются в воду по колено, как склон холма тут же уходит из–под ступней, и она с головой окунается в эту пучину, которая, кажется, кипит под хлёсткими ударами дождя.
Вынырнув, она кашляет, задыхается и суматошно гребёт обратно к склону, пытаясь нащупать ногами опору.
– Вальтер! – кричит она. – Сынок!
Выбравшись из пучины, пальцами впиваясь в жирную мокрую землю, выдирая податливую водянистую траву, пытаясь удержаться на скользком склоне, она оглядывается и видит силуэт мальчика, различает его по светлому пятну рубашки, которое через минуту растворяется в непроглядном мраке…
– Что?! – встречает её Грета истерическим воплем. – Где?!
Хильда опускается на пол у порога, насквозь мокрая, а возле её ног тут же начинает образовываться лужица.
– Что? – повторяет старуха, уже понимая, каков будет ответ.
– Всё из–за тебя, – стонет Хильда. – Всё из–за тебя, ведьма старая!
– Из–за меня?! – взвивается старуха. – Да при чем здесь я, если ты такая мать! Какая ты мать, ты ж ею никогда не была! Ты ж только и умела, что задом вертеть, оставив мальчишку на меня!
– Что ты мелешь, дрянь! Это ты его убила своими бреднями!
– Ты ж не знала, как от него избавиться! Ты не мать, ты шлюха, шлюха!
– Я убью тебя! – визжит Хильда и, поднявшись, бросается на кухню.
Старуха замирает, прислушивается к стуку выдвигаемого ящика стола, к звяканью яростно перебираемых вилок и ножей, к проклятиям, которыми её осыпает дочь.
– Я убью тебя, убью, – бормочет Хильда, выбирая самый большой нож, – у нас осталась кружка пшена. Всего кружка пшена. Но ещё целых две коробки макарон.
– Две коробки – это много, – примирительно произносит Грета. – Нам и за год не съесть столько макарон, дочка…
В декабре бабушка уснула. Как обычно кряхтя и шепча молитвы, улеглась после обеда в кровать и уснула. Аника не придала этому значения, потому что бабушка частенько ложилась отдохнуть после сытного обеда, который состоял из наваристых кислых щей, луковой поджарки, приправленной мукой, и ржаной каши с салом. Немного раздосадовало Анику лишь то, что бабушка проспала вплоть до ужина и, казалось, не собирается вставать до самого утра. Аника хотела есть, но разбудить бабушку она не осмелилась, потому что твёрдо знала: будить её можно только если гости или пожар.
Нет, не думать о пожаре! Не думать о пожаре! Не думать о пожаре!..
Панический ледяной страх, затапливавший её душу при одном упоминании пожара, заставил её стремительно выскочить из дома и бежать по снегу неведомо куда, с открытым в безмолвном крике ртом. Она добежала до самого обрыва на восточной оконечности острова и едва не рухнула с двадцатиметровой высоты вниз, на лёд, но какое–то чутьё заставило её вовремя остановиться. Тогда она, всё ещё терзаемая ужасом (а теперь вдобавок и обжигающим холодом), повернулась и побежала назад к избе и влетела в неё, захлопнув за собой дверь так стремительно и с таким треском, будто надеялась прищемить лапу, а лучше – голову этому холодному страху, непонятно почему и зачем преследующему её при каждом упоминании пожара. Есть ведь вещи и пострашнее – волки, например, которые не так уж редко появлялись вблизи острова, или шатун, вроде того, что года два тому назад забрёл к ним, повалил ограду и сломал дверь сараюшки, где хранились припасы на зиму, и только когда бабушка вышла из дому с бубном и билом и принялась бить в него, хрипло петь что–то и приплясывать, только тогда он заревел – почти заскулил, как обиженная собачонка, и ушёл; а ещё есть наводнение, которым река грозит им с бабушкой каждую весну, поднимая воду так, что она на какую–то пядь не доходит до высшей точки северного пологого склона, а если однажды дойдёт, то что будет?
Успокоившись и убедившись, что бабушка по–прежнему спит и вставать, кажется, не собирается, Аника кое–как похлебала холодных щей и выскребла остатки подсохшей ржаной каши с обеда – вот и повечеряла.
Потом каждый день она ждала, что родители как–нибудь проведают об её одиночестве и приедут, но они не приезжали. Бросили дочку на попечение старой бабушки и думать, наверное, забыли, ка́к они тут – старая–престарая бабка да малая девочка, на древнем как мир хуторе посреди реки, в небывало жестокие морозы.
Хутор стоял на маленьком высоком острове посреди Воземйоги. По одну сторону реки начиналась тундра, разлёгшаяся до самой Вытырмы, маленького полустанка, на котором поезд останавливается на две минуты и до которого два десятка вёрст с гаком, поросшая редкими чахлыми деревцами, каменистая, изрытая оврагами, что оставили пальцы падавших на неё богов ещё в ту пору, когда они не на жизнь, а на смерть дрались друг с другом за право владеть этой скудной землёй и людьми, живущими на ней (как будто нет земель пожирнее и людей побогаче), а по другую сторону тёмной стеной высилась молчаливая хмурая парма. И ни одной больше живой души вокруг – только снег, снег да лёд, и потрескивание деревьев на том берегу, которые мороз, кажется, решил сдавить до такой степени, чтобы они не выдержали и начали лопаться, превращаясь в мёрзлую пыль, осыпаясь холодным колким инеем, одно за другим, одно за другим, пока вся парма не поляжет, не осыплется снегом на снег, и не будет больше ничего, кроме снега, и ветру будет вольготно в этой пустоте,