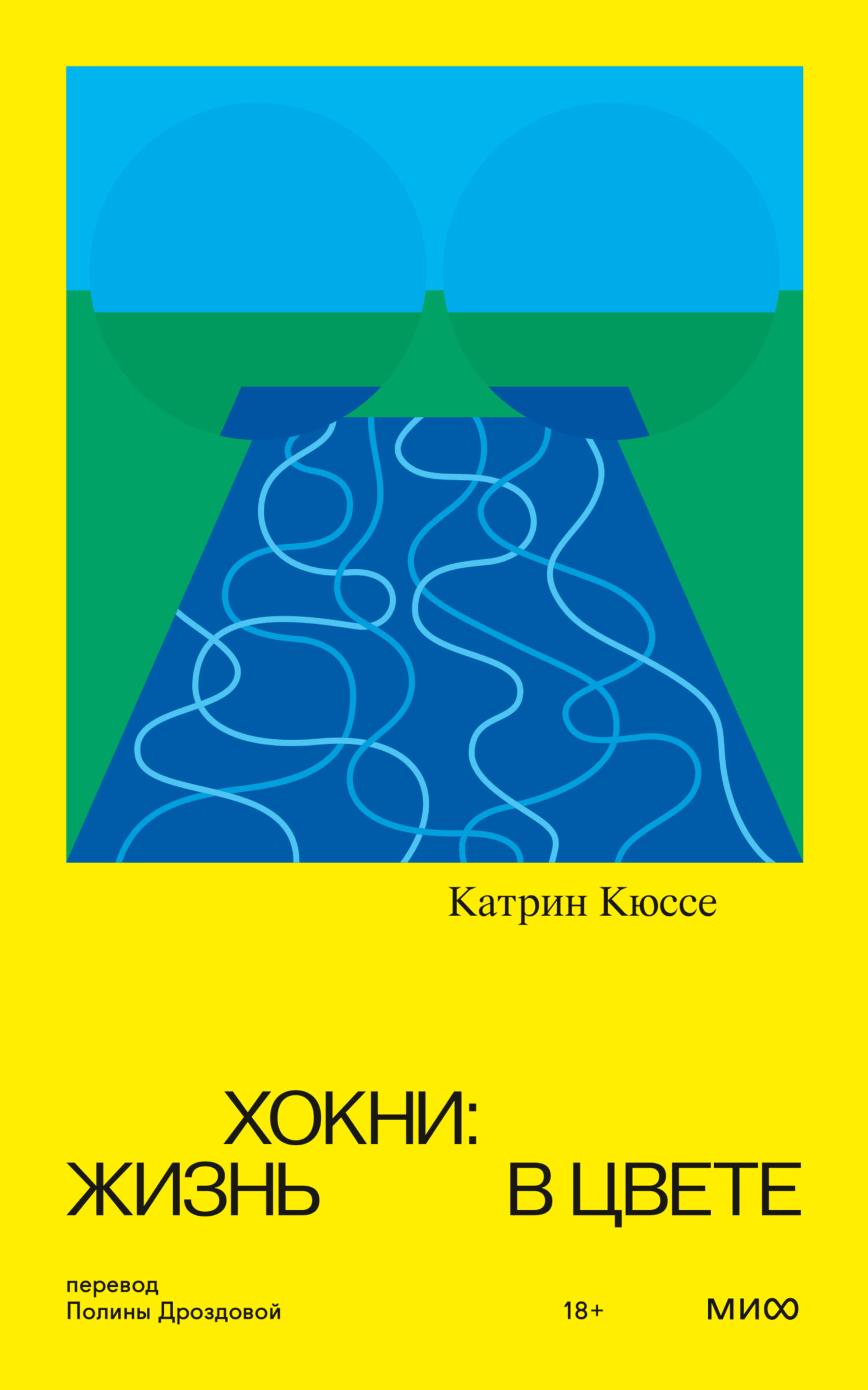все заново перед выставкой, открывавшейся через три недели, 13 мая, в галерее Андре Эммериха в Нью-Йорке: это была его первая персональная выставка после 1969 года. По мнению Касмина, проблема существовала исключительно в голове Дэвида, неспособного поставить точку в этой работе, потому что он не мог отказаться от Питера. «Нет», – ответил он, добавив, что картина будет готова.
Он работал как бешеный. Пригласил Мо – своего натурщика и помощника, который стал ему близким другом, – в загородный дом Тони в горах над Сен-Тропе, где он часто бывал вместе с Питером. Этот нахал позволил себе заявиться туда в конце лета, возвращаясь из Испании со своим нордическим другом, но Тони отказался их принимать, за что Дэвид был ему очень благодарен. Несмотря на то что вода ранней весной была еще холодная, Дэвид заставлял Мо подолгу плавать в бассейне, без конца щелкая фотоаппаратом, будто хотел его расстрелять. Потом Мо позировал ему, стоя на каменном бортике бассейна в розовом пиджаке Питера. По возвращении в Лондон он работал без продыху – даже ночью, поскольку один молодой кинорежиссер, делавший о нем фильм, предложил ему взять для работы, на время, мощные лампы дневного света, какими пользуются в кино. В обмен на эту услугу Дэвид должен был согласиться с присутствием в один из дней постороннего человека в его мастерской. В течение десяти дней он совсем не спал. Работа была закончена накануне вернисажа. Как только краска высохла, он свернул холст и вылетел в Нью-Йорк.
Это была его лучшая картина – лучше, чем портрет Кристофера и Дона, лучше, чем «Парк Источников, Виши». В ореоле света, заливающего его лицо, каштановые волосы и ярко-розовый пиджак, Питер, наблюдающий за пловцом в прозрачной воде, напоминал собой ангела – но ангела во плоти, отбрасывающего позади себя на бортик бассейна внушительную тень. Здесь обнаруживались одновременно и резкие диагонали, и зеленая перспектива «Парка Источников», и насыщенный, влекущий к себе голубой цвет портрета Кристофера и Дона. Картина отражала силу его любви к Питеру. Это был портрет неба, портрет воды, портрет любви, портрет художника. Глядя на него, Питер не сможет не оценить по достоинству ту любовь, которую питал к нему Дэвид.
Картину сразу же купили, а Питер не вернулся.
Генри уезжал на лето из Нью-Йорка и позвал Дэвида с собой на Корсику. Генри был другом с острым языком и жестоким чувством юмора, но в данном случае он стал примером невероятного терпения и готов был умирать со скуки ради Дэвида, имевшего только одну тему для разговора – вернее, монолога. Он не спрашивал себя, вернется ли Питер, а спрашивал, когда он вернется. Это был единственный вопрос, который его волновал. Когда Питер даст себе отчет в том, что Дэвид является любовью всей его жизни? Когда он наконец покончит с поиском новых ощущений и желанием получить новый опыт, свойственный юности? Дэвид задумал новый двойной портрет – двух его лондонских друзей, танцовщика и продавца старых книг, которые познакомились друг с другом благодаря ему, вернее, благодаря Питеру. Их разница в возрасте была та же, что и у них с Питером. Если он напишет их портрет, может быть, он поймет, в чем секрет стабильных отношений. «Лучше бы ты написал своих родителей, – предложил ему Генри. – Это позволит тебе поразмышлять о твоих с ними отношениях и станет превосходным психоанализом». Генри шутил лишь отчасти.
Дэвид больше не выносил Лондон, где каждая пара мужчин, которую он видел на улице со спины: один – стройный шатен, другой – высокий блондин, – заставляла учащенно биться его сердце. А когда он пересекался с Питером, – что волей-неволей случалось, так как они бывали в одних и тех же местах, посещали одни и те же галереи, – он должен был делать вид, что у него все хорошо, и не позволять себе смотреть на своего любовника, тело которого стало теперь для него недоступным. Это было невыносимо. Мир искусства вызывал у него отвращение. Он узнал, что человек, который купил в Нью-Йорке «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», выдавая себя за частного коллекционера, перепродал его потом в Германии в три раза дороже: картина, в которую он вложил свою душу, стала предметом спекуляции. Теперь он должен был закончить двойной портрет танцовщика и продавца книг, которому предстояло стать центральной работой на его ближайшей выставке. Дэвид смотрел на незаконченный холст и не видел в нем больше для себя интереса. Он ненавидел квартиру на Поуис Террас. Нужно было уезжать. Конечно, ему повезло, потому что он мог себе это позволить, но предпочел бы жалкую лачугу на краю света с Питером той шикарной жизни, которую вел. После рождественских праздников, которые он, как и каждый год, провел в Брэдфорде с родителями, сестрой и единственным из братьев, оставшимся жить в Англии, он улетел в Лос-Анджелес и снял дом на пляже в Малибу, куда позже к нему приехала Селия с двумя своими мальчишками: годовалым и трехлетним.
Ее сердце тоже было разбито. Осси без конца обманывал и вел себя с ней безобразно. Ей приходилось все это терпеть ради детей. Хоть Селия и была близкой подругой Питера, она осуждала его за жестокое поведение и встала на сторону Дэвида; Дэвид же, старый друг и бывший любовник Осси, встал на сторону Селии. Все в ней воплощало собой нежность: лицо и улыбка, кудряшки и светлые глаза, голос, ее славные малыши. Она была такой милой. Дэвид без конца рисовал ее. Каждое утро он отправлялся за шестьдесят километров, в свою мастерскую в Голливуде, и вечером того же дня проделывал обратный путь, возвращаясь в дом на пляже, где его ждали Селия с мальчиками. У нее был готов ужин, они открывали бутылку вина и, уложив детей, распивали ее, любуясь вечерним морем. Около двух часов ночи, после долгих разговоров: об Осси, о Питере, обо всем и ни о чем, – они засыпали в одной постели, тесно прижавшись друг к другу. Как брат с сестрой. Или даже нежнее. Дэвид чувствовал, как понемногу оттаивает. Была ли это дружба или любовь? Это было что-то теплое, ограждавшее его от одиночества и тоски, – защита, которой он резко и внезапно лишился, когда Осси, прознавший о тесной дружбе, завязавшейся между его женой и его другом, ураганом примчался из Лондона и забрал жену и детей.
Без Селии и малышей даже шум морского прибоя казался ему зловещим. Он уехал обратно в Европу. А когда 8 апреля услышал по радио, что умер Пикассо во Франции, в Мужене, в возрасте девяноста одного года, он разрыдался. Прошло почти два года с тех пор, как Питер бросил его, – два года, не оставивших в его памяти никаких воспоминаний; казалось, они просто канули в бездну. Однако он помнил, как если бы это случилось вчера: свой приезд