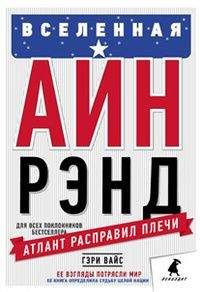Таких - толковых - в ателье и было большинство.
Швейная мастерская пана Юзефа продержалась на улице Доминиканцев до конца сорок восьмого.
То были три прекрасных, незабываемых, невозвратимых года - несмотря на разруху, на торчавшие вокруг развалины, в которых бродили голодные кошки с выжженной шерстью и бездомные шелудивые собаки, вынюхивавшие падаль, может, даже догнивающую под обломками человечину, на тени угнанных на смерть жильцов, витавшие над искореженными, повисшими, как скрижали, в воздухе половицами, на одиночные смертельные выстрелы, доносившиеся промозглыми вечерами из подъездов и подворотен.
Ателье пана Юзефа, расположенное под боком у доминиканского монастыря, постепенно и незаметно превратилось для каждого из них - для отца, только-только снявшего солдатскую шинель, для вечно настороженного, подпольного Хлойне, для степенного, рассудительного Диница, бежавшего из гетто в Рудницкую пущу в партизанский отряд "Смерть немецким оккупантам", для хромоногого, скрытного Цукермана, всю войну укрывавшегося где-то на хуторе в глиноземной Дзукии и перенявшего привычки и психологию крестьянина-литовца, - из заурядного места совместной работы во что-то большее: в сиротский приют, в убежище от грохота и крови, в благословенную маленькую, не отмеченную ни на одной карте - ни на русской, ни на литовской, ни на германской, - страну, где на гербе изображены не серп, которым ни одна полоска ржи в поле не сжата, не молот, которым ни одна конская подкова не подбита, а тоненькая стальная иголка с белой ниточкой, связующей души. Каждый, кто умело держал ее в руке, мог при желании стать полновластным хозяином и гражданином этой страны.
При всей разности характеров, при всем различии способностей ее граждане умудрялись жить в ладу и согласии, потому что пытались выпрямить свои изломанные, исковерканные, ущербные судьбы, а не ломать и разрушать их сызнова и сызнова.
Но и маленькую страну, как известно, не обходят стороной ни тучи, ни ветры.
Не обошли они и ателье на улице Доминиканцев.
В конце сорок восьмого высокое трестовское начальство неожиданно решило расширить "eskadron zydovsky", пополнить его новыми работниками из числа лиц коренной национальности и перевести в просторное помещение - во флигель одноэтажного купеческого дома на углу Троцкой и Завальной.
Переезд, кроме мелких и неизбежных неудобств, вроде бы ничего страшного не предвещал, хотя постоянные перемещения в пространстве, совершавшиеся по чужой воле за последние десять лет, порождали в "еврейском эскадроне" недобрые предчувствия и воспринимались всеми с тревогой, тупой и неодолимой, как зубная боль. Да в этом и не было ничего удивительного - ведь каждый из подопечных пана Юзефа наперемещался за тяжкие годы войны до одури. Сколько раз их, обреченных на неопределенность и бездомность, срывало с насиженных мест, бросало в разные безотрадные стороны. В мастерской не было ни одного человека, который в ту зачумленную пору не страдал бы получившей вдруг широкое хождение и не поддающейся быстрому лечению болезнью - неотвязной боязнью перемен, чаще дурных и непредсказуемых, чем радужных и спокойных. Никто точно не знал, какими они, эти перемены, будут, однако странное ощущение того, что обязательно случится что-то недоброе, крепло с каждым днем. Даже брючник Хлойне, давно покинувший подполье, и тот был заражен этой хворью, но объяснял ее происками классовых врагов, сеющих из-за океана смуту, а к их невольным подпевалам причислял хромоногого Цукермана, у которого чутье на все дурные перемены было развито намного сильнее, чем у остальных.
Город все чаще и грозней будоражили слухи о державном гневе Сталина на евреев, которые якобы поголовно записались в шпионы и агенты империализма. В еврейских домах, далеких от театральных увлечений, скорбно шушукались о гибели в Минске Соломона Михоэлса...
- А вы, многоуважаемый Хлойне, абсолютно уверены, что это и вправду была авария? - наседал на подпольщика другой подпольщик - Цукерман.
- А что это, товарищ Цукерман, по-вашему, было? Вы что, некролога в "Правде" не читали?.. Левитана по радио не слышали?.. Если хотите знать, Михоэлса в Москве похоронили со всеми почестями... Траурные речи... гора венков... Даже от ЦК КП (б)...
- С каких пор, многоуважаемый Хлойне, речи и траурные венки считаются доказательством невиновности тех, кто убивает? - кипятился Цукерман. - Знаем мы эти ваши аварии... Как бы нам самим вскоре под колеса не попасть...
- Что ты, дурак, мелешь! Если одного еврея - пусть и великого - задавил грузовик, другим что, на улицу не выходить, в автобус не садиться?..
- Дай Бог, чтобы вы были правы... Но я в случае чего ждать не буду снова уйду в подполье. Махну в Дзукию... Казис всегда меня примет... Хлев у него большой...
- Успокойтесь, товарищи... - мирил опасных спорщиков слыхом не слыхавший о Михоэлсе пан Юзеф. - Неужели в мастерской, кроме аварии, не о чем поговорить? Тем более что, если смотреть в корень, вся наша жизнь авария...
Хотя пан Глембоцкий к евреям никакого отношения не имел (он вел свой род от мелких шляхтичей) и мог за себя не опасаться, он все же к каждому тревожному слуху о евреях относился серьезно: сегодня - слух, завтра - факт. В расширении мастерской и ее переводе на угол Троцкой и Завальной пан Юзеф тоже усмотрел - по крайней мере для себя - дурной знак: наверно, снимут с должности и назначат другого - русского или литовца. Еврея Хлойне, окажись слухи верными, начальником вряд ли поставят.
Насчет себя Глембоцкий ошибался: с должности его не сняли. Что же до евреев, то слухи об их преследовании множились, и пан Юзеф пребывал в растерянности. При всем своем почтении к этому шустрому племени он им, к сожалению, ничем помочь не сможет. Однажды уже пытался: "Портных убивать нельзя..." И чуть не поплатился... Господь Бог, и тот в войну им не помог. А ведь Отец небесный - не поляк, не мелкий шляхтич из-под Ченстохова, а их человек в горних высях.
Жизнь, как всегда, распорядилась по-своему и избавила "врио" от угрызений совести.
Накануне Рождества Глембоцкий захворал и лег в больницу. На следующий день Хлойне откуда-то принес на Троцкую известие, что у пана Юзефа обнаружили болезнь, при которой все время трясутся руки. Портной с трясущимися коленками - это, мол, еще куда ни шло. Но с трясущимися руками!..
Пока Глембоцкий болел, его попеременно замещали партизан Диниц - он отвечал на звонки из треста и подписывал какие-то бумаги - и отец, договаривавшийся с клиентами о форме пошива, о сроках, показывавший им образцы материала, снимавший мерки.
Работы перед Рождеством было больше, чем обычно, и отец вьюном вертелся то возле одного заказчика, то возле другого.
Вдруг в ателье вошли двое - дылда, подстриженный под тракториста актера Крючкова, и одетый не по сезону в замшевую куртку, не сходившуюся на брюшке, благообразный толстяк с дряблым лицом священника.
- Садитесь, пожалуйста. Сейчас я вас обслужу, - сказал отец и задержал свой взгляд на расстегнутой замшевой куртке.
Незнакомцы сели и, дождавшись, когда в ателье, кроме портных, никого не осталось, быстро поднялись и обступили отца.
- Что будем шить? - почему-то волнуясь, тихо спросил он.
- Скажите, пожалуйста, - предпочел свой вопрос отцовскому толстяк в замшевой куртке, - у вас не найдется таблички "Закрыто на переучет"?
И показал свое удостоверение.
"За кем они? - кольнуло у отца в висках. - За Диницем? За хуторянином Цукерманом? За несгибаемым большевиком Хлойне?"
Себя отец упорно и утешительно исключал из этого ряда, но уверенности в том, что его не тронут, от самоутешения и упорства нисколько не прибавлялось...
- Я не знаю, есть ли у нас такая табличка.
- Умеете писать по-русски? - спросил второй в замшевой куртке.
- Нет, - с облегчением сказал отец.
- Попросите того, кто умеет. Пусть напишет: "Переучет до 16 часов". Кто тут у вас самый грамотный?
- Цукерман.
- Вот и хорошо, - пробасил дылда. - И ключ от дверей прихватите.
Отец кивнул головой, вошел в большую комнату, где, ни о чем не ведая, спокойно работал "eskadron zydovsky", взял со стола лист, на котором перед кроем расчерчивали образцы одежды, и поднес к самому образованному из них Цукерману.
- Иосиф, - сказал он, стараясь не выдать своего волнения, - напиши на листе: "Переучет до 16 часов". По-русски.
- Зачем? - спросил Цукерман.
- Надо. Потом объясню.
Хуторянин размашисто вывел химическим карандашом надпись, отец достал из своего рабочего шкафчика запасной ключ от дверей и понес "табличку", как приговор, в приемную.
Дылда, подстриженный под тракториста, пробежал глазами надпись, похвалил: "Молодец! Ни одной ошибки", пришпилил ее с наружной стороны дверей, сами двери закрыл на ключ, ключ спрятал в карман, и в маленькой стране, еще недавно благословенной, не отмеченной ни на одной карте и никому не грозившей, среди бела дня начался обыск.