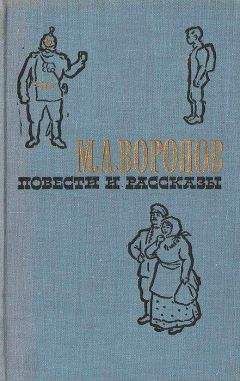Все мы сидели как-то Насупившись, упорно поглядывая по сторонам.
Так мы проехали в молчании верст десять. Город уже остался далеко за нами и совершенно потерялся из виду, исчезли даже и одинокие избушки, разбросанные вдоль дороги, и побежали мимо выжженные солнцем степи и поля, покрытые только что сжатым хлебом, — а мы всё молчали.
— А не обревизовать ли нам свою провизию? — спросил наконец студент, вытаскивая свой мешок.
Предложение было одобрено, и каждый принялся за свой мешок, вытаскивая оттуда различные булки и булочки, кокурки и лепешки, яйца, яблоки, жареных цыплят, ветчину и проч. и проч. Ревизия несколько развеселила нас, и когда мешки достаточно опустели, мы разговорились.
— Что, жалко родину-то? — спросил нас студент.
— Да чего там жалеть? — спросил я его в свою очередь, стараясь придать своему голосу как можно больше холодности.
— Отчего же ты плакал?
— Врешь, я не плакал!
— Врешь, плакал!
— Да ты сам плакал, — сказал я ему.
— Ну, это уж извини! — с иронией отозвался студент, — вот спроси-ка ямщика: он видел.
— Зато ты в прошлом году плакал, — настаивал я.
— А ты теперь плакал.
— Врешь! врешь! врешь! — с досадою почти закричал я.
— Хорошим хвалитесь! — повернувшись к нам лицом, заметил ямщик, — отца с матерью покинули, да еще хвалитесь, что не плакали! Я вот мужик, а этим не стал бы хвалиться. Нехорошо, нехорошо! — наставительно прибавил он.
Тут и мы поняли, что нехорошим хвалились, почему тотчас же и прекратили неловкий спор.
На первую станцию мы приехали уже после сумерек… Тотчас заложили новых лошадей и отправились далее.
Наступила ночь. Выплыл яркий полумесяц, и заблестели звезды; в воздухе сделалось как-то свежее и тише; изредка лишь слышалось где-нибудь вдалеке тихое стрекотание кузнечика или крик какой-нибудь птицы, не отыскавшей еще ночлега. Тройка медленно тащилась по неровной и пыльной дороге, нагоняя тоску и скуку. Полулежа и как-то невесело посматривая по сторонам, я предался грустным размышлениям о только что покинутом мною отеческом доме.
Вижу я, сидят все за ужином молча: отец на одном конце стола, матушка на другом, а по бокам их — братья и сестры. Вижу даже толстое, какое-то муругое лицо нашей кухарки, советующей детям скорее дохлебывать щи, потому что «тятенька с мамынькой уже отхлебали», — и дети спешат и жгутся, посылая в себя ложку за ложкой. Подали второе блюдо. Опять кухарка торопит детей. Наконец все встали из-за стола, выстроились в шеренгу и хором прочли благодарственную молитву; потом дети поцеловали руку у отца и матушки и остановились, как бы в ожидании дальнейших приказаний. «Пойдемте на ночь богу молиться», — зовет отец. Все переходят в другую комнату, опять выстраиваются в шеренгу перед киотом с образами и хором начинают читать молитвы, заканчивая все это следующим возгласом, заученным каждым со слов отца: «Добра ночь богу, папе, маме, братцам, сестрицам и всем». Дети опять целуют руку у отца и расходятся, причем братья, живущие отдельно, идут в свое обиталище. Раздевшись, они уже готовятся потушить свечу, как вдруг слышится стук в окно и за ним резкий голос отца: «Сеня, каналья! отчего ты не перекрестил подушку?» Сеня приподнимается и трижды крестит подушку. «Да читали ли вы „Да воскреснет бог“?» — спрашивает отец. «Читали, читали, папенька!» — отвечают братья. «Ну, прочтите-ка еще, а я послушаю». Братья начинают читать молитву, а отец, приложив ухо к стеклу, слушает, изредка громко поправляя их. Наконец братья тушат свечу и укладываются спать. Отец, вижу я, все бродит по двору. Вот он набрал охапку щепок, поносил, поносил их с собою, вероятно отыскивая удобное место, и наконец бросил среди двора, проговорив про себя: «Кучер завтра подберет». Вот вижу, гонит он корову в сарай; подошел и к собаке, одиноко сидящей у каретника на докучной цепи. «Что, скучно тебе, Волчок? — спрашивает отец. — Скучно, скучно глупому! — как бы за Волчка отвечает он, — но что же делать?» — со вздохом прибавляет отец и направляется к погребам, попробует, хорошо ли заперты замки, и тогда уже идет спать. Дошедши до двери, он останавливается, думает и потом опять повертывается назад и идет к сараю, в который только что загнал корову. «Нет, ты, буренка, ступай-ка сюда во двор, тут тебе лучше!» — рассуждает отец и опять выгоняет корову из сарая. Чувствуя, что все хозяйственные распоряжения и хлопоты окончены, отец, вижу я, трижды перекрестился на сияющую вдали золоченую главу церкви и тогда уже спокойно пошел спать. Вместе с ним, вижу я, засыпает весь дом; даже и корова перестает шевелить челюстями, переваливая жвачку ив одной стороны в другую; даже сам Волчок, вижу, залез в конуру и успокоился.
«Отчего же это мне не спится?» — думаю я, поглядывая то на спящих товарищей, то на бедные окрестности.
Скучна и бедна вообще русская природа, но особенно убога она в нашем юго-восточном крае. Однообразные посевы, безлюдные и мертвые степи и солончаки, жалкие деревенские избушки из хвороста, покрытые соломой, и полуразвалившиеся станционные дома — вот что приходится на долю проезжающего в тех местах. Редко-редко порадует вас какой-нибудь веселый вид или чистенький домик, еще реже поместится на вашем облучке так называемый лихач-ямщик, певец и балагур, в рваном сером армячишке и с шляпой набекрень, — да и тот поет до того однообразно и грустно, что просто всю душу вымотает своими песнями, а балагурит и того хуже; но главное, все это делает не по внутреннему влечению, а ради гривенника, который надеется взять с вас за эти увеселения.
Грустное явление представляет русский придорожный мужик. Плохо вознаграждаемый за свою тяжелую службу от содержателей станций, он всеми правдами и неправдами старается пополнить этот недостаток в обеспечении на проезжающих, потому он первый попрошайка, первый вымогатель и лихоимец. Он просит с вас за песню, за сказку, за прибаутку, за ответ, который он дал на ваш вопрос, за пребывание с вами в одной комнате, — одним словом, за все, в чем он принимает или не принимает никакого участия, но что по его логике подлежит денежному вознаграждению с вашей стороны. До каких курьезов могут иногда доходить эти просьбы «на водку», свидетельствует следующий случай.
Зашел я как-то в станционную комнату и в ожидании лошадей уселся на диван, тупо посматривая своими полусонными глазами на противоположную стену. Сальная свеча плохо освещала окружавшие меня предметы. Отворилась дверь, и в комнату вошел только что привезший нас ямщик; остановившись у порога, он пристально смотрел на меня. Я молчал.
— А лошадей-то закладывают, — заметил ямщик.
— Это хорошо, — отвечал я.
Наступило молчание.
— Вошь ныне нас ест, — заговорил ямщик, почесывая голову.
— Это плохо, — заметил я.
— И блоха в большой силе: ровно горох крупная, — продолжал рассуждать ямщик.
— И это нехорошо, — вымолвил я и замолчал.
— Старый ямщик, ваше благородие…
— Что же тебе нужно?
— На водочку бы с вашей милости…
— Да ведь я тебе уже дал.
— То за извоз пожаловали…
— Ну, а теперь-то за что? — спросил я.
— Как же, тоже поговорил с вашей милостью! — отозвался ямщик, переминаясь.
Я расхохотался.
— Помилуй! рассказал ты мне черт знает о какой дряни, да еще на водку просишь!
— Многие дают, — заметил ямщик.
Я опять засмеялся. Ямщик между тем принялся рыться в карманах своих штанов.
— Эх, да табаку-то ек! — вдруг воскликнул он, вытаскивая кисет.
Я молчал, ожидая, что дальше будет.
— Ну вот на табак уж с вашей милости следует получить, потому что без табаку не проживешь: без табаку мужик пропасть должен, это верно, — решительно заключил ямщик.
Против такой находчивости, разумеется, устоять было уже невозможно, и я дал ему несколько медных монет на табак.
Во всю первую ночь я не мог заснуть, потому что ехал на перекладных в первый раз. Только поутру, обессиленный и истомленный бессонницей, я наконец задремал, но ненадолго. Проснувшись от сильного толчка, от которого даже слетела фуражка с моей головы, я принялся проклинать все: и дорогу, и товарищей, и даже собственную свою жизнь.
— Ты вот лучше послушай, что ямщик рассказывает о своем отце, — уговаривали меня студент и другой спутник.
— А что?
— Вот послушай…
— А я рассказываю им, как он у киргизов лошадей крал, — объяснил мне ямщик. — Так вот, — продолжал ямщик свой рассказ, — взял он эту свою бурую кобылу, оседлал, да и поехал в путь-дорогу. Ехать ему нужно было примерно вот хоть бы теперь как до В.- верст двести, поболе. «Взял я, говорит, с собой провизию и все как следует. Еду. День ехал, другой ехал, наконец к вечеру прибыл. Степь, говорит, одна кругом, так где-где, говорит, травка колышется, да и та засохла; а где, говорит, эти солончаки, так соль-ат лежит такая белая-пребелая, точно снег, и земля, говорит, в тех местах инда полопалась от жару. Слез я, говорит, с кобылы-то, навесил ей торбу с овсом — не трожь, мол, поест — а сам и пошел по степи. Ходил-ходил, говорит, все следы отыскивал, наконец нашел. Ну, думаю, в этом месте, мотри, недавно были, потому что следы-то свежие на земле. Вот я и пошел дальше. Иду, а сам все на землю поглядываю — не видно ли чего? Только и заприметил я, вдали что-то ровно чернеется, — а уж темно стало: ну, думаю, табун. Смотрел это я, говорит, да как шарахнусь в сторону, да бежать, да бежать…»