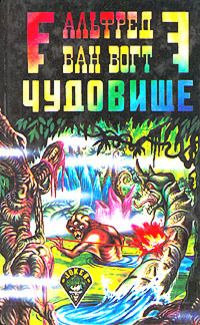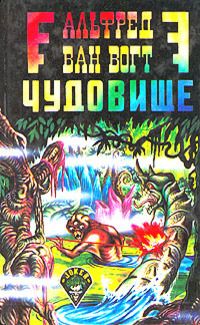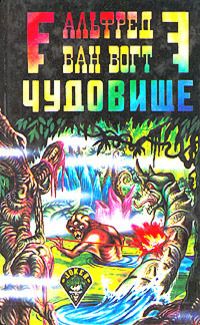Вотъ стоитъ шкапчикъ съ башмаками. Около него сидитъ на низенькой скамеечкѣ владѣтельница его, извѣстная сплетница, Наумовна, жена департаментскаго сторожа, обладающая желудкомъ, имѣющимъ способность вмѣщать въ себя баснословное количество кофію. Бой-баба, зубастая, хоть отъ кого, такъ отгрызется. Она вяжетъ чулокъ и перебранивается съ сосѣдкой-рубашечницей за то, что та отломила ручку у ея кофейника.
— Вишь носъ-то поднимаешь, будто барыня, кричитъ она: — чѣмъ важничаешь-то? что дочь-то за городовова выдала! видали мы виды-то!… Давно-ли разбогатѣла-то? Помнишь еще, какъ у сосѣдокъ по рублю въ долгъ на товаръ выпрашивала; знаемъ мы съ чего въ ходъ-то пошла, — воздахтора [15] Пашкина обошла, тотъ съ дуру-то и далъ сотенную.
— Ахъ ты, халда эдакая, вѣдьма кіевская! ты что орешь? управы что-ли на тебя нѣту? Мало тебя мужъ-то за косу таскаетъ, шлюху эдакую! завопила рубашечница, кинула въ сторону работу и подбоченясь встала на порогѣ въ величественную позу. — Да я Ивану Антипычу скажу, такъ онъ тебя въ бараній рогъ согнетъ! придешь поклониться въ ножки, да ужъ поздно будетъ.
— Велика птица, твой Иванъ Антипычъ! — гордовой и больше ничего. Да мнѣ хоть за фартальнымъ посылай!…
Сцена эта имѣла бы трагическую развязку, мегеры эти вцѣпились бы другъ-другу въ волоса, ежели-бы передъ скапчикомъ Наумовны не остановилась покупательница и тѣмъ не прервала ссоры.
— Не покупайте у ней, сударыня, башмаковъ! и два дня не проносите, — подошвы-то приклеены!.. все еще не унималась рубашечница и долго-бы не отстала, ежели-бы ей самой судьба не послала мужичка-покупателя, спросившаго рубашку.
Около ларя, обвѣшаннаго со всѣхъ сторонъ валенками, рукавицами, гарусными шарфами, кушаками и прочими необходимыми вещами для простаго народа, стоитъ хозяинъ, русый ярославецъ, навѣрно романовскаго уѣзда. въ валенкахъ, крытомъ сукномъ тулупѣ и бараньей шапкѣ; отъ нечего дѣлать онъ наигрываетъ на гармоникѣ, составляющей также артикулъ его торговли.
— Что покупаете, кавалеръ? кричитъ онъ проходящему мимо солдату.
Солдатъ останавливается и смотритъ на товаръ.
— Перстенекъ, сережки для самой, бармоне? предлагаетъ ему ярославецъ уже успѣвшій положить въ сторону свой музыкальный инструментъ.
— Сусемъ не то, зеркало треба.
— Зеркало, изволь есть, что ни-на-есть важнецъ, — вотъ такъ удружу. Держи! говоритъ онъ, обтирая рукавомъ зеркало.
— Это великонько, по меньше, чтобъ за обшлагъ входило.
— Изволь и эвтакія есть. Бери!
Солдатъ принимаетъ зеркало, глядитъ въ него и начинаетъ строить рожи.
— И не разсматривай, кавалеръ: хоть на изнанку рожу вывороти, все вѣрно покажетъ. Зажмурясь бери. Ужъ на томъ стоимъ!
— Цѣна?
— Съ кого три гривенника, — съ тебя четвертакъ!
— У мѣстѣ съ тобой? хладнокровно спрашиваетъ его солдатъ.
— Что-жъ, кавалеръ, шутишь что-ли? давай цѣну!
— Восемь копѣекъ.
— Полно безобразничать-то, давай цѣну! Ну вотъ что, ты ужъ мнѣ понравился, кавалеръ важный, Егорья, значитъ пришпиленъ, давай пять-алтынный.
— Гривенникъ дамъ.
— Нѣтъ, служба, себѣ дороже….
Солдатъ трогается съ мѣста…
— Прибавь хоть двѣ-то копѣйки!
— Ни гроша.
— Эй, кавалеръ, воротись! даешь одиннадцать?
— Нѣтъ.
— Ну, что съ тобой дѣлать, давай деньги.
Учинивъ продажу, торговецъ снова беретъ гармонику и начинаетъ наигрывать.
— Степанъ Ефимычъ, полно тебѣ бѣса-то тѣшить, брось! знаешь нонѣ дни-то какіе, постъ вѣдь, кричитъ ему та самая рубашечница, которая ругалась съ башмачницей Наумовной.
И Степанъ Ефимычъ, слушаясь совѣта рубашечницы, оставляетъ на время свои музыкальныя упражненія. Вообще женщины играютъ здѣсь главную роль, да и не на одномъ мѣстѣ торжища, а даже и въ домашнемъ быту, потому что мужья ихъ, получая ничтожное жалованье, находятся въ совершенной ихъ зависимости.
— Что вашъ-то? спрашиваетъ одна сосѣдка другую про мужа.
— Да ничего, теперь пересталъ безобразничать, остепенился, а то, просто бѣда какъ пилъ: изъ дому таскать сталъ. Передъ самой масляной утащилъ съ фатеры кота, да и продалъ въ лабазъ, гдѣ мы муку забираемъ. И, матушка, вѣдь, думаешь, онъ мнѣ дешево стоитъ? На прошлой недѣлѣ сюртукъ ему справила, четырнадцать рублевъ всталъ. Только изъ-за казенной фатеры и маюсь съ нимъ, самъ-то только на сапоги себѣ и достанетъ, а то все пропиваетъ.
— Грѣхи, мать моя, грѣхи да и только!… и мой тоже пошаливаетъ. «Дай, говоритъ, мнѣ, Степановна, десять рублевъ, я, говоритъ, у насъ въ казармахъ, водкой торговать буду: барышистое, говоритъ, дѣло.» Я ему съ дуру-то и повѣрила, да и дала, ну онъ, какъ путный, и водки купилъ, да самъ первый и нализался; пришли товарищи начали поздравлять съ начатіемъ дѣла, да всю водку-то и выпили. Ужъ ругала, ругала я его; гдѣ, говорю, тебѣ пьяной рожѣ водкой торговать, сиди, говорю, по-прежнему въ швальнѣ своей.
Въ то самое время, когда кумушки разсказываютъ о непотребности и пьянствѣ своихъ сожителей, недалеко отъ нихъ происходитъ слѣдующая сцена: Какой-то чухонецъ въ шапкѣ съ ушами на манеръ женскаго капора, купилъ себѣ платокъ и подаетъ торговцу новенькую трехрублевую бумажку. Тотъ долго смотритъ ее на свѣтъ, и говоритъ:
— А знаешь что, вейка, вѣдь бумажка-то фальшивая; что ежели-бы я не доглядѣлъ, вѣдь ты бы меня надулъ….
— Какъ, что ты врешь? кричитъ испугавшійся чухонецъ.
— Нѣтъ, братъ, не вру, а правду говорю. Да ты лапы-то не протягивай, я ее тебѣ не дамъ; ты, можетъ, самъ ее сдѣлалъ.
Чухонецъ труситъ не на шутку.
— Вотъ, братъ, твоя бумажка, смотри! и торговецъ раздираетъ ее пополамъ…
Чухонецъ вскрикиваетъ, вырываетъ у него изорванную бумажку и начинаетъ браниться, изрыгая весь лексиконъ финской ругани. Онъ по простотѣ своей думаетъ, что разорванная бумажка никуда не годится. Торговецъ начинаетъ хохотать, къ нему подходятъ другіе и начинаютъ вторить.
— Да ужъ теперь-то бери ее, она теперь ничего не стоитъ.,
Чухонецъ чуть не плачетъ, а все еще ругаетея, а ларьники такъ и покатываются со смѣху. Бумажка была настоящая и торговецъ хотѣлъ только посмѣяться надъ покупателемъ. Наконецъ онъ сжалился надъ нимъ.
— Ну, лайба, ужъ жалко мнѣ тебя, бери платокъ, давай бумажку, такъ и бытъ уже сдадимъ тебѣ съ нее сдачи, только гривенникъ промѣну.
Теперь, читатели, не угодно-ли вамъ послѣдовать за мной въ самое сердце Апраксина, на такъ называемый развалъ. Боже мой! чего только здѣсь нѣтъ? Что здѣсь не продается и что не покупается! Это-то и есть то самое мѣсто, куда, по увѣренію остряковъ апраксинцевъ, что хотите принесите, все купятъ, — отца съ матерью и того купятъ. Вы увидите здѣсь такія вещи, выложенныя для продажи, что невольно зададите себѣ вопросы: кому они нужны? кто ихъ купитъ? Посмотрите, на землѣ раскинута рогожа и на ней лежатъ самые разнообразные предметы для продажи, какъ-то: половина какой-то французской книжки, нѣсколько солдатскихъ пуговицъ, подметка, дырявая голенища, сапожные гвозди, ручка и крышка отъ чайника, черенокъ отъ вилки, бокалъ съ отбитой ножкой, брючная штрипка и проч. и проч. И въ самомъ дѣлѣ, на вашъ взглядъ вещи эти никуда не? годны и даже не имѣютъ стоимости, а между прочимъ и они найдутъ себѣ покупателя. Напримѣръ: деньщикъ изломаетъ во время чищенья офицерскаго сапога шпору, убоится гнѣва его благородія, да и побѣжитъ на развалъ прибирать шпору, и приберетъ. Попробуйте, поднимите съ рогожи крышку отъ чайника или черенокъ отъ вилки и спросите о цѣнѣ этихъ предметовъ.
— Да что, говоритъ продавецъ, почесывая затылокъ:- дайте десять копѣекъ.
— Что ты, помилуй, да вѣдь она почти совершенно ничего не стоитъ. Ну, кому она нужна?
И на все на это онъ вамъ отвѣтитъ также, какъ отвѣтилъ Собакевичъ Чичикову во время продажи мертвыхъ душъ.
— Да стало-быть она вамъ нужна, коли вы ее покупаете. Что-жъ даете семь копѣекъ! продолжаетъ онъ, вертя въ рукахъ крышку, и ужъ станетъ на своемъ словѣ; потому что онъ знаетъ, ежели она вамъ нужна и пришлась въ пору къ чайнику, то вы дадите за нее семь копѣекъ.
Торгующіе на развалѣ «смѣсь племенъ, нарѣчій, состояній» и русскіе урожденцы Ярославской губерніи, татары, евреи, еврейки, имѣющіе за душой всего капиталу гривенникъ и обладающіе состояніемъ въ нѣсколько тысячъ.
Вотъ, напримѣръ, небольшая лавченка, сколоченная изъ дюймовыхъ досокъ. У ней сидитъ старичокъ съ мѣдными очками на носу и читаетъ божественную книжку. Когда угодно пройдите мимо, вы всегда застанете его читающимъ. Весь товаръ въ этой лавченкѣ состоитъ изъ нѣсколькихъ старинныхъ мѣдныхъ монетъ, старыхъ подсвѣчниковъ, какой-то вазы, двухъ десятковъ книгъ и портрета Екатерины второй. Кажется, какъ можно кормиться отъ такой торговли, а между прочимъ торговля, которою занимается старичокъ, выгоднѣе винныхъ откуповъ и тому подобной промышленности. Дѣло видите-ли въ чемъ: старичокъ этотъ, читающій божественную книгу, — закладчикъ, ростовщикъ, и лавчонка съ вазой и портретомъ Екатерины второй, есть ничто-иное, какъ прикрытіе его ремесла. Старичекъ этотъ отъ извѣстныхъ темныхъ личностей покупаетъ и принимаетъ въ залогъ разныя вещи, доставшіяся имъ случайно. Подобнаго рода торговыя заведенія не нравятся и самимъ апраксинскимъ хозяевамъ: нерѣдко бываетъ, что какой-нибудь молодецъ, любящій кутнуть и съигравшій съ хозяиномъ въ темную [16], сбываетъ этому старичку хозяйскій товаръ, разумѣется за четверть цѣны. Загляните-ка въ квартиру этого старичка, чего-чего вы тамъ не увидите: и составныя части дорогаго салопа, т. е. мѣхъ отдѣльно, воротникъ отдѣльно, и покрышка также, карманные часы, только почему-то большею частью безъ колечекъ, серебряныя ложки, куски шелковаго товара, перстни и прочія цѣнныя вещи. Старичекъ этотъ читаетъ, читаетъ божественную книжку, по временамъ подыметъ голову, да и спроситъ проходящаго: «серебряныхъ, золотыхъ вещей не продаете-ли?» Бываетъ, что и найдетъ продавца. Въ эту-то часть Апраксина и несутъ на продажу всевозможныя вещи, начиная отъ черно-бураго лисьяго салопа и кончая рваными штанами, на которыхъ однѣхъ дыръ столько, что и не перечтешь. Вещи, подобныя черно-бурому салопу, сбываются закладчикамъ, а рѣшетчатые штаны жидовкамъ.