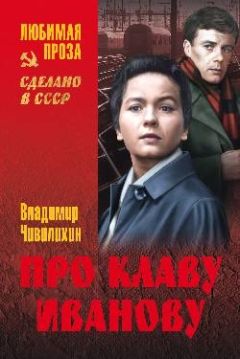- Ну вот, - бормотал солдат. - Ну что ты? Вот тоже...
- Уходи! - сказала Клава.
- Что? - растерялся он.
- Совсем уходи!
- За что прогоняешь?
- Вы все!.. - крикнула Клава. - Уходи!
Солдат сделал налево кругом и ушел, а мы с другом проводили в тот вечер Глухаря и тоже разошлись. На прощанье Захар сказал:
- Брось, Петр! Все пройдет. Ничего!
Мне были дороги не сами слова - в них ничего такого не заключалось, а то, что друг меня понимает и я его тоже. Шел домой один, сквозило, и так захотелось хоть на недельку сбегать к Золотому Китату, поглядеть в его струи, вьющие бесконечные светлые косы, раствориться в рдеющей тайге, которая утишает сейчас этот ветер, в диких счастливых криках перелетных птиц. Правда, это нам только кажется, что птицы всегда беспечны и веселы, им тоже достается. Раз убил я гуся на перелете, а у него под крыльями оказались мозоли.
Коротко, чтобы на самом деле не было лишнего, напишу еще об одном случае, что произошел в эти дни. Я-то про него узнал, когда вернулся из-за границы, но рассказать надо здесь.
Глухарь и мой друг Захар Ластушкин решили тоже впутаться в эту историю, хотя их никто не просил. Клаву они не беспокоили - уже знали, что тут я замешан, а я ведь не терплю, если кто-то встревает в мои личные дела. Дело вышло так.
В заводском сквере Захар сидел возле Глухаря, долго и медленно, обдумывая слова, писал ему в блокнот. Глухарь прочел, спросил:
- А где этот солдат-то?
- Да вон он.
Глухарь увидел, что солдат бродит на задворках депо, разглядывает небо и железный хлам.
- Да поговорить можно, только вот как тут Петька Жигалин? Ты же его знаешь...
- Кто у нас Жигалина не знает?
- Ладно, - согласился Глухарь. - Идем потолкуем.
Они обогнули угол депо, будто случайно встретили солдата и пригласили пройти с ними на кладбище паровозов. Там зарастают бурьяном, ждут переплавки "овечки", "щуки" и даже одна "фита" - букву эту уже никто не помнит, а паровозы с таким обозначением еще есть.
Присели в закутке на ржавую ось колесной пары, и Глухарь сказал:
- Садись. Кури.
- Спасибо, - отозвался тот. - Не хочется.
- Говорят, стройбат ваш перебрасывают? - спросил Захар для начала разговора.
- Да, - ответил солдат. - Но у меня уже срок службы кончается.
- Вот об этом и речь! - сверкнул на него глазами Захар.
- Погоди ты! - тронул его рукой Глухарь, однако сам все никак не мог приступить к делу. - Ты, служба, нас не бойся. Мы ничего.
- А я не боюсь.
- Только уж ты решай: или так, или так! - Глухарь сурово посмотрел на него. - А этого мы не позволим. Понял?
- Не совсем, - сказал солдат.
Тут Захар не выдержал; он горячий такой парень. Схватил солдата за грудки и притиснул затылком к бандажу колеса, чтобы тот понял. Солдат взял его руки, развел их, поднялся.
- Хорошо. - Он пошел прочь, потом оглянулся: - Я подумаю.
- Что он сказал? - спросил Глухарь.
А в цехе что-то назревало. Как всюду, люди у нас разные, но я кой-кого просто не узнавал, потому что прорвалась у них наружу какая-то темная злоба.
- Еще одного недоноска нам теперь нагуляет!
- В ресторане пьянствовала с солдатами, все видали.
- Да гнать надо из депо эту гулену! А ее еще на новый станок поставили...
Я возражал, злился, стыдил, люди притихли, но видно было, что остаются они при своем. Не знаю, передавала ли Тамарка эти разговоры подруге, но все заметили - Клава Иванова чужая стала нам, совсем чужая. Не отвечала, когда с ней заговаривали, а иногда грубила даже. Помню, теми днями явилась она в цех со свежей ссадиной на щеке и распухшей бровью. Прошел слух, что вчера, уже в темноте, кто-то видел ее с солдатом недалеко от комсоставского общежития и они будто бы ссорились. Подослали к ней Парашу Ластушкину - сердечную, справедливую женщину, совесть нашего цеха; у меня-то к Ластушкиным особое уважение, это они мою мать и нас с сестренкой приняли в войну и поддерживали, пока мы не определились своим хозяйством.
Прасковья Тихоновна подошла к станку Клавы и, по-матерински обняв ее, что-то ласково спросила. Клава последние дни была печальна, неулыбчива, а в то утро особенно. Я не слышал, что уж такое она ответила Тихоновне, да только отошла наша Параша от нее с выраженьем недоумения и боли на морщинистом добром лице. К обеду уже и Глухарю стало известно, что будто бы Клаву Иванову вчера вечером поколотил ее солдат и она сегодня вся в синяках. Видите, до чего дошло? А когда я у Тихоновны спросил, она сказала, что утрешний разговор с Клавой был короток - на шутливый вопрос, не провалилась ли под ее ногой тротуарная доска, Клава резанула, что, мол, ее, Прасковью, это не касается.
А после обеда понеслось. Никто уже ничего не понимал. Где сплетня? Где правда? В чем чья вина? Слухи перенеслись и в другие цехи. У нас же не столовка, а парламент, деповские девчонки там - жу-жу-жу! Может, кто и завидовал Клаве, что она краше их? Но некоторые из парней тоже подключились. Мне стало тошно от всего этого, и непонятно было, откуда поднялось в людях такое и как все закончится. И что делать? Может, погодить, оставить все как есть и пусть оно идет само собой? Нет! Да неужто мы такие, что не сможем ничего? Но кому и как подойти к ней? Крепко я понял в те дни - кроме всего-всего остального, у каждого должен быть человек-друг, с которым можно говорить обо всем на свете. А еще лучше, если не один.
И только ли Клавы теперь касалось все это? Не мелки ли мы, если каждый сам по себе? И еще вопрос - мы оттолкнули Клаву или она нас? Мне это было неясно. Скажите, а вам всегда и все ясно? В тех людях, с которыми вы рядом работаете, в семьях ваших, в вас самих? Может быть, вы даже каждую ночь видите благополучные сны? Тогда я завидую вам, хоть и не верю.
Что же все-таки произошло с нами? Понятное дело, для себя-то я оправдания находил - мы все это умеем делать. Опять же, если брать нас, как говорится, в общем и целом, мы ничего. Устоялись, сгладились, и на нас можно было вроде надеяться. Но последний случай, с Клавой-то, показал, что и нам надо меняться! Каждому. И помогать друг другу в этом. Все время думая в те дни о нас и Клаве Ивановой, я понял еще одно, очень важное: мало желать человеку добра, надо уметь делать добро и учиться этому уменью.
И ночью я переживал, хотя обычно сплю хорошо. А утром заметил, что Глухарь, даже не заглянув в свою комнатенку, зашел к Жердею. Передавали, что старик что-то доказывает и просит, а главный инженер, исписав ему полблокнота, не соглашается ни в какую. Когда толпившиеся перед дверью заглядывали к ним, инженер махал рукой, чтоб не мешали. Даже планерку начальников ремонтных цехов пришлось переносить, а это у нас случай редкий.
Днем Глухарь бродил по нашему цеху, гудел что-то на уши станочникам, совал им блокнот. Ко мне-то он прежде других обратился, но я сразу даже как-то не понял - меня встревожили глаза старика. Они были очень усталыми, мутными, в желтых кругах. А вечером, когда притихло депо, он снова подступил к инженеру. Я стоял в темном коридоре, за дверью, курил под запал, все слышал и даже кой-чего видел в светлую щель. Правда, весь этот разговор я понял позже, когда мне в руки попал очередной блокнот Глухаря.
- Какие у тебя еще доводы против? - спросил старик.
"Все депо знает - если я сказал "нет", значит, тому не бывать", написал инженер и засмеялся, показывая этим, что шутит.
- Ишь каков! - Глухарь не принял шутки. - Но ведь никто не знает, что ты сказал "нет".
Инженер вздохнул.
"Осада? - написал он. - Зачем вам это?"
- Мне - незачем, понятно дело. - Глухарь тяжело поднялся с кресла, он не хотел сидеть ниже Жердея. - Девку спасать надо.
"Она же никого не слушает! И почему такой эксперимент нельзя проделать после смены?"
- Это совсем не то!
"Жалко, все будет впустую. А работы уйма".
- Для человека ничего не жалко. И рабочие говорят, что не подведут. Ты не веришь им?
"Рабочим я верю, но категорически против вашей затеи".
- А мы - за.
"Кто?"
- Все. И старики тоже.
"Старики теперь за меня", - написал Жердей и засмеялся.
- Как сказать...
"Вы же ни за что не отвечаете, а у меня производство".
- Мы за все отвечаем, паря.
Глухарь стоял над ним горой, волновался, не понимал Жердея. А инженер опасался больше всего, как бы Глухарь не догадался, что Жердей чуточку трусит. Вот упрямый старик! Нет, это не было, конечно, упрямством, это было упорством. Только Глухарь замысливал очень уж необычное. Инженер сплетал и расплетал свои ноги, скрипел стулом, барабанил пальцами по пустому столу. Что бы такое посущественней возразить старику? Хотя придется, видно, согласиться с этой затеей. Жердей взял блокнот, подумал:
"А в парткоме нам шею не намылят?"
- Значит, ты просто боишься? - Глухарь жалостливо, мигая синими веками, посмотрел на Жердея и устало опустился в кресло.
- Ну хорошо, хорошо, - пробормотал Жердей. - Делайте.
Но старый котельщик все смотрел на него, и от этого испытующего взгляда снизу некуда было деться. "Что он так смотрит-то? И на самом деле, неизвестно еще, как отнесутся к этой штуке, ее можно будет по-разному толковать. Уже ведь согласился, и старик это понял по губам, что ли? Видно, осуждает за слабость".