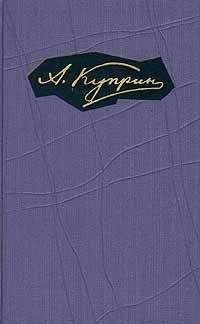Усевшись рядом с Ярченко, он сейчас же заиграл новую роль — он сделался чем-то вроде старого добряка-помещика, который сам был когда-то в университете и теперь не может глядеть на студентов без тихого отеческого умиления.
— Поверьте, господа, что душой отдыхаешь среди молодежи от всех этих житейских дрязг, — говорил он, придавая своему жесткому и порочному лицу по-актерски преувеличенное и неправдоподобное выражение растроганности. — Эта вера в святой идеал, эти честные порывы!.. Что может быть выше и чище нашего русского студенчества?.. Кельнер! Шампанскава-а! — заорал он вдруг оглушительно и треснул кулаком по столу.
Лихонин и Ярченко не захотели остаться у него в долгу. Началась попойка. Бог знает каким образом в кабинете очутились вскоре Мишка-певец и Колька-бухгалтер, которые сейчас же запели своими скачущими голосами:
Чу-у-у-уют пра-а-а-авду,
Ты ж, заря-я-я-я, скоре-е-ее.
Появился и проснувшийся Ванька-Встанька. Опустив умильно набок голову и сделав на своем морщинистом, старом лице Дон-Кихота узенькие, слезливые, сладкие глазки, он говорил убедительно-просящим тоном:
— Господа студенты… угостили бы старичка… Ей-богу, люблю образование… Дозвольте!
Лихонин всем был рад, но Ярченко сначала — пока ему не бросилось в голову шампанское — только поднимал кверху свои коротенькие черные брови с боязливым, удивленным и наивным видом. В кабинете вдруг сделалось тесно, дымно, шумливо и душно. Симеон с грохотом запер снаружи болтами ставни. Женщины, только что отделавшись от визита или в промежутке между танцами, заходили в комнату, сидели у кого-нибудь на коленях, курили, пели вразброд, пили вино, целовались, и опять уходили, и опять приходили. Приказчики от Керешковского, обиженные тем, что девицы больше уделяли внимания кабинету, чем залу, затеяли было скандал и пробовали вступить со студентами в задорное объяснение, но Симеон в один миг укротил их двумя-тремя властными словами, брошенными как будто бы мимоходом.
Вернулась из своей комнаты Нюра и немного спустя вслед за ней Петровский. Петровский с крайне серьезным видом заявил, что он все это время ходил по улице, обдумывая происшедший инцидент, и, наконец, пришел к заключению, что товарищ Борис был действительно неправ, но что есть и смягчающее его вину обстоятельство — опьянение. Пришла потом и Женя, но одна: Собашников заснул в ее комнате.
У актера оказалась пропасть талантов. Он очень верно подражал жужжанию мухи, которую пьяный ловит на оконном стекле, и звукам пилы; смешно представлял, став лицом в угол, разговор нервной дамы по телефону, подражал пению граммофонной пластинки и, наконец, чрезвычайно живо показал мальчишку-персиянина с ученой обезьяной. Держась рукой за воображаемую цепочку и в то же время оскаливаясь, приседая, как мартышка, часто моргая веками и почесывая себе то зад, то волосы на голове, он пел гнусавым, однотонным и печальным голосом. коверкая слова:
Малядой кизак на война пишол,
Малядой баришня под забором валаится,
Анна, айна, ай-на-на-на, ай-на на-на-на.
В заключение он взял на руки Маню Беленькую, завернул ее бортами сюртука и, протянув руку и сделав плачущее лицо, закивал головой, склоненной набок, как это делают черномазые грязные восточные мальчишки, которые шляются по всей России в длинных старых солдатских шинелях, с обнаженной, бронзового цвета грудью, держа за пазухой кашляющую, облезлую обезьянку.
— Ты кто такой? — строго спросила толстая Катя, знавшая и любившая эту шутку.
— Сербиян, барина-а-а, — жалобно простонал в нос актер. — Подари что-нибудь, барина-а-а.
— А как твою обезьянку зовут?
— Матрешка-а-а… Он, барина, голодни-и-ин… он кушай хочи-и-ить.
— А паспорт у тебя есть?
— Ми сербия-а-ан. Дай что-нибудь, барина-а-а… Актер оказался совсем не лишним. Он произвел сразу много шуму и поднял падавшее настроение. И поминутно он кричал зычным голосом: «Кельнер! Шам-панскава-а-а!» — хотя привыкший к его манере Симеон очень мало обращал внимания на эти крики.
Началась настоящая русская громкая и непонятная бестолочь. Розовый, белокурый, миловидный Толпыгин играл на пианино сегидилью из «Кармен», а Ванька-Встанька плясал под нее камаринского мужика. Подняв кверху узкие плечи, весь искособочившись, растопырив пальцы опущенных вниз рук, он затейливо перебирал на месте длинными, тонкими ногами, потом вдруг пронзительно ухал, вскидывался и выкрикивал в такт своей дикой пляски:
Ух! Пляши, Матвей,
Не жалей лаптей!..
— Эх, за одну выходку четвертной мало! — приговаривал он, встряхивая длинными седеющими волосами.
— Чу-у-уют пра-а-а-авду! — ревели два приятеля, с трудом подымая отяжелевшие веки под мутными, закисшими глазами.
Актер стал рассказывать похабные анекдоты, высыпая их как из мешка, и женщины визжали от восторга, сгибались пополам от смеха и отваливались на спинки кресел. Вельтман, долго шептавшийся с Пашей, незаметно, под шумок, ускользнул из кабинета, а через несколько минут после него ушла и Паша, улыбаясь своей тихой, безумной и стыдливой улыбкой.
Да и все остальные студенты, кроме Лихонина, один за другим, кто потихоньку, кто под каким-нибудь предлогом, исчезали из кабинета и подолгу не возвращались. Володе Павлову захотелось поглядеть на танцы, у Толпыгина разболелась голова, и он попросил Тамару провести его умыться, Петровский, тайно перехватив у Лихонина три рубля, вышел в коридор и уже оттуда послал экономку Зосю за Манькой, Беленькой. Даже благоразумный и брезгливый Рамзес не смог справиться с тем пряным чувством, какое в нем возбуждала сегодняшняя странная яркая и болезненная красота Жени. У него оказалось на нынешнее утро какое-то важное, неотложное дело, надо было поехать домой и хоть два часика поспать. Но, простившись с товарищами, он, прежде чем выйти из кабинета, быстро и многозначительно указал Жене глазами на дверь. Она поняла, медленно, едва заметно, опустила ресницы в знак согласия, и когда опять их подняла, то Платонова, который, почти не глядя, видел этот немой разговор, поразило то выражение злобы и угрозы в ее глазах, с каким она проводила спину уходившего Рамзеса. Выждав пять минут, она встала, сказала: «Извините, я сейчас», — и вышла, раскачивая своей оранжевой короткой юбкой.
— Что же? Теперь твоя очередь, Лихонин? — спросил насмешливо репортер.
— Нет, брат, ошибся! — сказал Лихонин и прищелкнул языком. — И не то, что я по убеждению Или из принципа… Нет! Я, как анархист, исповедываю, что чем хуже, тем лучше… Но, к счастию, я игрок и весь свой темперамент трачу на игру, поэтому во мне простая брезгливость говорит гораздо сильнее, чем это самое неземное чувство. Но удивительно, как совпали наши мысли. Я только что хотел тебя спросить о том же.
— Я — нет. Иногда, если сильно устану, я ночую здесь. Беру у Исая Саввича ключ от его комнатки и сплю на диване. Но все девицы давно уже привыкли к тому, что я — существо третьего пола.
— И неужели… никогда?..
— Никогда.
— Уж что верно, то верно! — воскликнула Нюра. — Сергей Иваныч как святой отшельник.
— Раньше, лет пять тому назад, я и это испытал, — продолжал Платонов. — Но, знаете, уж очень это скучно и противно. Вроде тех мух, которых сейчас представлял господин артист. Слепились на секунду на подоконнике, а потом в каком-то дурацком удивлении почесали задними лапками спину и разлетелись навеки. А разводить здесь любовь?.. Так для этого я герой не их романа. Я некрасив, с женщинами робок, стеснителен и вежлив. А они — здесь жаждут диких страстей, кровавой ревности, слез, отравлений, побоев, жертв, — словом, истеричного романтизма. Да оно и понятно. Женское сердце всегда хочет любви, а о любви им говорят ежедневно разными кислыми, слюнявыми словами. Невольно хочется в любви перцу. Хочется уже не слов страсти, а трагически-страстных поступков. И поэтому их любовниками всегда будут воры, убийцы, сутенеры и другая сволочь. А главное, — прибавил Платонов, — это тотчас же испортило бы мне все дружеские отношения, которые так славно наладились.
— Будет шутить! — недоверчиво возразил Лихонин. — Что же тебя заставляет здесь дневать и ночевать? Будь ты писатель — дело другого рода. Легко найти объяснение: ну, собираешь типы, что ли… наблюдаешь жизнь… Вроде того профессора-немца, который три года прожил с обезьянами, чтобы изучить их язык и нравы. Но ведь ты сам сказал, что писательством не балуешься?
— Не то, что не балуюсь, а просто не умею, не могу.
— Запишем. Теперь предположим другое — что ты являешься сюда как проповедник лучшей, честной жизни, вроде этакого спасителя погибающих душ. Знаешь, как на заре христианства иные святые отцы вместо того, чтобы стоять на столпе тридцать лет или жить в лесной пещере, шли на торжища в дома веселья, к блудницам и скоморохам. Но ведь ты не так?