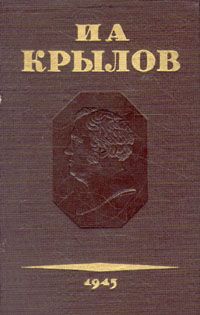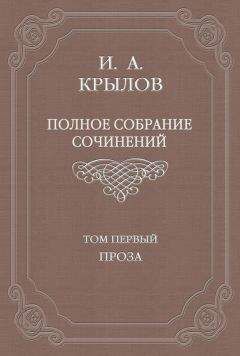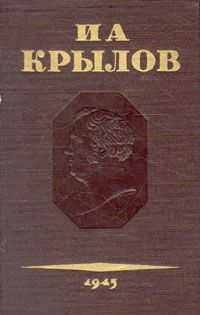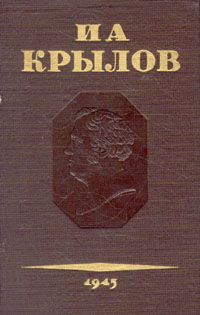«Так поэтому, — сказал я, — никто не может иметь никаких собственных своих выгод, потому что вы друг у друга только что перекрадываете?»
«Нет, — отвечал он, — мастеровые имеют некоторые только способы к плутовству, купцы вдесятеро того больше, а законники и старшины употребляют все средства и способы к своему обогащению, и для того все купцы и мастеровые стараются у нас, разбогатев, купить себе между судьями скамейку; отчего произошло, что ныне у нас с лишком во сто раз больше судей, нежели было прежде».
Предстань, любезный Маликульмульк, каково было мое удивление, услышав о столь развращенных нравах сих островитян. Я было не медля хотел уже отправиться на север, по совету Диогенову; но любопытство, а паче некоторый луч надежды, что между таковым множеством судей, может быть, сыщу я трех знающих и добросовестных, удержали меня несколько на сем острове. Расставшись с моим знакомцем, лишь только успел я выйти на улицу, как встретившийся со мной рассерженный человек, державший в руках своих бумагу*, просил меня просмотреть, какова его челобитная, которую подавал он на нововышедшую в свет сатиру.
«Государь мой, — отвечал я ему, — я не знаю ни сатиры, ни вашего дела».
«О сударь! — сказал он, — это дело требует непременного отмщения. Сатира эта написана на рогоносца, а жена моя точно доказывает, что это на меня».
После чего подал он мне свою челобитную, с которой копию, как любопытную вещь, к тебе посылаю.
Судей собрание почтенно*,
Внемли пиита жалкий глас,
И рассуди ты непременно
С сатириком негодным нас;
Он смел настроить дерзку лиру
И выпустить во свет сатиру,
Где он, рогатого браня,
Назвал глупцом его безбожно,
Жена ж моя твердит неложно,
Что это пасквиль на меня.
Второе, он сказал нахально,
Что всем рогатым чести нет,
Хотя признаться непохвально,
Но это точно мой портрет.
А третье, тот его рогатый,
Лишь красть чужое тароватый,
Не может сам писать стихов,
А вам весь город это скажет,
И всякий стих мой то докажет,
Что я и был и есть таков.
Прошу ж покорно, накажите
За пасквиль моего врага
И впредь указом запретите
Писать сатиры на рога.
Может быть, любезный Маликульмульк, после уведомлю я тебя, чем эта странная тяжба кончится.
Письмо XIII
От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку
О бытии его в собрании модных госпож и петиметров. Какие там происходили разговоры на счет одной графини, которой в глаза все льстили. Удивление его при слушании сих разговоров, наполненных ласкательства и притворства; разговор его о сем с некоторым знакомым графом, который рассказывает ему, что притворство и ласкательство почитается у них узлом всех сообществ и что потому наблюдается превеликая осторожность во всех покупках. О женщинах, какое искусство употребляют они в нарядах. О гулянии в саду, и о некотором случившемся там забавном приключении
Осматривая многие города, вздумалось мне в сем городе прожить несколько времени. Приняв на себя вид знатного путешественника, познакомился я со многими здешними жителями, которые со всех сторон осыпают меня превеликими ласками и приглашают во все лучшие собрания модных своих госпож и петиметров, где с великим примечанием рассматриваю я хитрости женщин и вероломство мужчин. В одно время случилось, когда я туда вошел, то речь шла о некоторой графине, о которой все говорили с превеликою насмешкою, несмотря на то, что в глаза ей все показывались друзьями.
«Я не знаю, — говорила одна молодая госпожа, — откуда графиня берет свои пустые рассказы, которыми всегда нам наводит скуку; по чести, в ее лета не позволялось бы такое пустое болтанье». — «Никак, сударыня, — сказал один петиметр с насмешливым видом, — ежели только это правда, что лета бывают причиною охоте скучать в собраниях своим болтаньем, то графиня давно уже имеет сие право». — «Куды какой ты насмешник, — подхватила другая госпожа, — я знаю графиню, она еще не так стара, чтоб ее считать в числе болтливых старух. Она вышла замуж в тот год, как я родилась: ей было тогда двадцать четыре года, а мне теперь только тридцать два». — «Как сударыня, — вскричал один вертопрах, с видом превеликого удивления, — вы кажетесь еще совершенным младенцем, а говорите, будто вам тридцать два года; это мне кажется столько же удивительным, как и то невероятным, чтоб графине было пятьдесят шесть лет, хотя она и сказывает всем, что ей не больше сорока».
В ту самую минуту, как спорили о летах сей графини, вошла она в собрание; каждый перед нею переменил свои слова. «Ах! боже мой, любезная графиня, — говорила ей та самая госпожа, которая за минуту перед тем столь щедро награждала ее пятьюдесятью шестью годами, — какой у тебя сегодня прекрасный цвет в лице, как ты кажешься прелестна, никто не скажет, чтоб тебе было тридцать лет».
«Однако ж, мне больше тридцати. — сказала графиня вполголоса, усмехаясь, прищуривая глазами и кусая себе губы, чтоб сделать их алее. — Я совсем не спала нынешнюю ночь, — продолжала она, — и поутру вставши страшилась сама на себя взглянуть в зеркало; по чести! я не хотела никуда сегодня показаться, но, имея чрезвычайное желание быть о вали вместе, решилась, наконец, сюда приехать».
«Мы им очень много сожалели, когда бы лишены были нашего приятнейшего для нас присутствия, — вскричал тот петиметр, который пред ее входом язвил ее жестокими насмешками, — потому что никто не приносит столько удовольствия в собраниях, как вы, сударыня! Чорт меня возьми! если я не гораздо приятнее слушаю те небольшие повести, которые вы иногда изволите нам рассказывать, нежели лучшие басни Бокасовы* и де ла Фонтеновы».
Я чрезвычайно удивлялся, слушая сии разговоры, наполненные гнусного ласкательства и притворства, и почитал оное непростительным вероломством. Мне очень казалось странным, что здесь, по заочности, столь язвительно насмехаются над такою особою, с которою всякий день бывают вместе и которую называют именем друга; а еще того страннее, что в глаза ту же самую особу осыпают чрезвычайными похвалами. Сии похвалы я почитал не иначе, как несноснейшим оскорблением, потому что они заключали в себе скрытыми те самые насмешки, которые пред ее входом на счет ее были произносимы.
Как скоро вышел я из сего собрания, то не мог воздержаться, чтоб не открыть моего удивления одному коротко мне знакомому графу. «Ежели все люди, — говорил я ему, — с которыми вы живете, обходятся с вами с таким притворством, то вы великого сожаления достойны и ни на чьи слова не должны полагаться. Кто может вас уверить, чтоб не говорили когда и на ваш счет таких же язвительных насмешек, какие говорены были насчет графини? Эти люди, имеющие столь злобные и коварные сердца, называют себя се друзьями, равно как и вас уверяют в своей дружбе».
«Я уже знаю, — ответствовал мне граф, — каким образом я в таком случае поступать должен. Мне довольно известен свет, чтоб не допустить себя обмануть никакими тщетными уверениями дружбы и пустыми похвалами, произносимыми без мыслей и без всякого основания. Я сам, сообразуясь с обычаем и модою, часто хвалю то, что мне кажется смешным, и после охотно откажусь от тех похвал, ежели потребуют от меня истинного в том доказательства».
«Но к чему нужно сие притворство? — спрашивал я его. — На что непрестанно изменять чувствам своего сердца? Ваши уста поэтому никогда не произносят того, с чем согласуется ваше сердце; и искренность, которая почитается самонужнейшею добродетелию для общежития, совсем вам неизвестна».
«Что ж делать, — говорил он мне, — такое здесь заведено обхождение; притворство почитается теснейшим узлом всех здешних сообществ. Здешние жители, приметя в себе, что они не могут быть способными истинно любить тех людей, с коими обращаются, начали употреблять притворство вместо истинной любви. Хитрость заступила место истины, а ласкательство место чистосердечия; и, наконец, нужда сделала сие притворство извинительным».
Вот, почтенный Маликульмульк, какие главнейшие причины вежливости и учтивства, которые столь много уважаются между здешними согражданами, и коими они не иному чему одолжены, как искренности и чистосердечию, которых они лишены и вместо которых оные употребляют. Все их обязательные и учтивые уверения, их ласковые приемы и льстивые слова суть следствия их притворства. Философ должен похвалы их и вежливость почитать ядом, положенным в напиток, имеющий самый приятый вкус.
В здешней стороне каждый человек ни о чем более не старается, как о том, чтоб наружно обласкать всех, попадающихся ему навстречу: одному он учтиво кланяется, другого осыпает льстивыми словами и потом обнимает с знаками искреннейшей дружбы особу, очень мало ему знакомую. Все здешние жители в искренности и чистосердечии могут почесться Титами, и всякому по наружности их покажется, что они почитают те дни, в которые не удастся им никому оказать благодеяния, днями в жизни их потерянными; но если войтить во внутренность их расположения, то найдешь совсем тому противное. Они чрезвычайную имеют склонность к злословию и почитают то для себя великим утешением, когда на чей счет удается кому из них сказать острое слово. Здесь очень часто друг своим другом жертвует удовольствию вымолвить в обществе вертопрахов острую и забавную шутку. Здесь мало сыщешь такого дружества, которое не было бы при случае подвержено насмешкам, и также очень редко найдешь таких людей, которые были бы столько счастливы, чтоб имели такого, кому бы могли открыться в своих несчастиях и вверить свои тайны. Ежели истинные друзья повсюду редки, то здесь они всего реже.