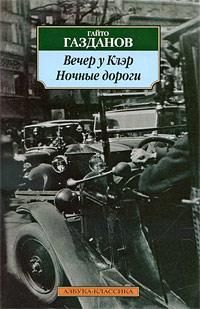Гайто Газданов - Вечер у Клэр
На сайте mybooks.club вы можете бесплатно читать книги онлайн без регистрации, включая Гайто Газданов - Вечер у Клэр. Жанр: Русская классическая проза издательство неизвестно,. Доступна полная версия книги с кратким содержанием для предварительного ознакомления, аннотацией (предисловием), рецензиями от других читателей и их экспертным мнением.
Кроме того, на сайте mybooks.club вы найдете множество новинок, которые стоит прочитать.

Гайто Газданов - Вечер у Клэр краткое содержание
Вечер у Клэр читать онлайн бесплатно
Тебе подобной в мире нет. Весь свет твердит, и я с ним тоже: Другой, что год, то больше лет, А ты, что год, то все моложе.
- У тебя очень недовольное выражение, Виталий. - Что делать? Я, брат, старый пессимист. Ты, говорят, хочешь поступить в армию? - Да. - Глупо делаешь. - Почему? Я думал, что он скажет "эти идиоты". Но он этого не сказал. Он только опустил голову и проговорил: - Потому что добровольцы проиграют войну. Мысль о том, проиграют или выиграют войну добровольцы, меня не очень интересовала. Я хотел знать, что такое война, это было все тем же стремлением к новому и неизвестному. Я поступал в белую армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было принято; и если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в красную армию. Но меня удивило, что Виталий, старый офицер, относится к этому с таким неодобрением. Я не вполне понимал тогда, что Виталий был слишком для этого умен и вовсе не придавал своему офицерскому чину того значения, какое ему обычно придавалось. Но все же я спросил его, почему он так думает. Равнодушно поглядев на меня, он сказал, что они, то есть те, в чьих руках находится командование антиправительственными войсками, не знают законов социальных отношений. - Там, - сказал он, оживляясь, - там вся северная голодная Россия. Там, брат, идет мужик. Знаешь ли ты, что Россия крестьянская страна, или тебя не учили этому в твоей истории? - Знаю, - ответил я. Тогда Виталий продолжал. - Россия, - говорил он, - вступает в полосу крестьянского этапа истории, сила в мужике, а мужик служит в красной армии. - У белых, по презрительному замечанию Виталия, не было даже военного романтизма, который мог бы показаться привлекательным; белая армия - это армия мещанская и полуинтеллигентская. - В ней служат кокаинисты, сумасшедшие, кавалерийские офицеры, жеманные, как кокотки, резко говорил Виталий, - неудачные карьеристы и фельдфебели в генеральских чинах. - Ты все всегда ругаешь, - заметил я. - Александра Павловна говорит, что это твоя profession de foi(1). - --------------------------------------(1) Букв.: исповедание веры (фр.), изложение взглядов. - Александра Павловна, Александра Павловна, - с неожиданным раздражением сказал Виталий. - Profession de foi. Какая глупость! Двадцать пять лет, со всех сторон и почти ежедневно, я слышу это бессмысленное возражение: ты все ругаешь. Да ведь я думаю о чем-нибудь или нет? Я тебе излагаю причины неизбежности такого исхода войны, а ты мне отвечаешь: ты все ругаешь. Что ты - мужчина или тетя Женя? Я Александру Павловну упрекнул за то, что она все какую-то Лаппо-Нагродскую читает, и она мне тоже сказала, что я все, по обыкновению, ругаю. Нет, не все. Я литературу, слава Богу, знаю лучше и больше люблю, чем моя жена. Если я что-нибудь браню, значит, у меня есть для этого причины. Ты пойми, - сказал Виталий, поднимая голову, - что из всего, что делается в любой области, будь это реформа, реорганизация армии, или попытка ввести новые методы в образование, или живопись, или литература, девять десятых никуда не годится. Так бывает всегда; чем же я виноват, что тетя Женя этого не понимает? - Он помолчал с минуту и потом отрывисто спросил: - Сколько тебе лет? - Через два месяца будет шестнадцать. - И черт несет тебя воевать? - Да. - А почему, собственно, ты идешь на войну? - вдруг удивился Виталий. Я не знал, что ему ответить, замялся и, наконец, неуверенно сказал: - Я думаю, что это все-таки мой долг. - Я считал тебя умнее, - разочарованно произнес Виталий. - Если бы твой отец был жив, он не обрадовался бы твоим словам. - Почему? - Послушай, мой милый мальчик, - сказал Виталий с неожиданной мягкостью. - Постарайся разобраться. Воюют две стороны: красная и белая. Белые пытаются вернуть Россию в то историческое состояние, из которого она только что вышла. Красные ввергают ее в такой хаос, в котором она не была со времен царя Алексея Михайловича. - Конец Смутного времени, пробормотал я. - Да, конец Смутного времени. Вот тебе и пригодилась гимназия. - И Виталий принялся излагать мне свой взгляд на тогдашние события. Он говорил, что социальные категории - эти слова показались мне неожиданными, я все не мог забыть, что Виталий - офицер драгунского полка, - подобны феноменам, подчиненным законам какой-то нематериальной биологии, и что такое положение если и не всегда непогрешимо, то часто оказывается приложимым к различным социальным явлениям. - Они рождаются, растут и умирают, - говорил Виталий, - и даже не умирают, а отмирают, как отмирают кораллы. Помнишь ли ты, как образуются коралловые острова? - Помню, - сказал я. - Я помню, как они возникают; и, кроме того, я сейчас вспоминаю их красные изгибы, окруженные белой пеной моря, это очень красиво; я видел такой рисунок в одной из книг моего отца. - Процесс такого же порядка происходит в истории, - продолжал Виталий. - Одно отмирает, другое зарождается. Так вот, грубо говоря, белые представляют из себя нечто вроде отмирающих кораллов, на трупах которых вырастают новые образования. Красные - это те, что растут. - Хорошо, допустим, что это так, - сказал я; глаза Виталия вновь приняли обычное насмешливое выражение, - но не кажется ли тебе, что правда на стороне белых? - Правда? Какая? В том смысле, что они правы, стараясь захватить власть? - Хотя бы, - сказал я, хотя думал совсем другое. - Да, конечно. Но красные тоже правы, и зеленые тоже, а если бы были еще оранжевые и фиолетовые, то и те были бы в равной степени правы. - И, кроме того, фронт уже у Орла, а войска Колчака подходят к Волге. - Это ничего не значит. Если ты останешься жив после того, как кончится вся эта резня, ты прочтешь в специальных книгах подробное изложение героического поражения белых и позорно-случайной победы красных - если книга будет написана ученым, сочувствующим белым, и героической победы трудовой армии над наемниками буржуазии - если автор будет на стороне красных. Я ответил, что все-таки пойду воевать за белых, так как они побеждаемые. - Это гимназический сентиментализм, - терпеливо сказал Виталий. - Ну, хорошо, я скажу тебе то, что думаю. Не то, что можно вывести из анализа сил, направляющих нынешние события, а мое собственное убеждение. Не забывай, что я офицер и консерватор в известном смысле и, помимо всего, человек с почти феодальными представлениями о чести и праве. - Что же ты думаешь? Он вздохнул. - Правда на стороне красных. Вечером он предложил мне пойти вместе с ним в парк. Мы шагали по красным аллеям, мимо светлой маленькой речонки, вдоль игрушечных гротов, под высокими старыми деревьями. Становилось темно, речка всхлипывала и журчала; и этот тихий шум слит теперь для меня с воспоминанием о медленной ходьбе по песку, об огоньках ресторана, который был виден издалека, и о том, что, когда я опускал голову, я замечал свои белые летние брюки и высокие сапоги Виталия. Виталий был более разговорчив, чем обыкновенно, и в его голосе я не слышал обычной иронии. Он говорил серьезно и просто. - Значит, ты уезжаешь, Николай, - сказал он, когда мы углубились в парк. - Слышишь, как речка шумит? - перебил он себя внезапно. Я прислушался: сквозь ровный шум, который доносился сначала, слух различал несколько разных журчаний, одновременных, но не похожих друг на друга. - Непонятная вещь, - сказал Виталий. - Почему этот шум так меня волнует? И всегда, уже много лет, как только я слышу его, мне все кажется, что до сих пор я его не слыхал. Но я хотел другое сказать. - Я слушаю. - Мы с тобой, наверное, больше не встретимся, - сказал он. - Или тебя убьют, или ты заедешь куда-нибудь к черту на кулички, или, наконец, я, не дождавшись твоего возвращения, умру естественной смертью. Все это в одинаковой степени возможно. - Почему так мрачно? - спросил я. Я никогда не умел представлять себе события за много времени вперед, я едва успевал воспринимать то, что происходило со мной в данную минуту, и потому все предположения о том, что, может быть, когда-нибудь случится, казались мне вздорными. Виталий говорил мне, что в молодости он был таким же; но пять лет одиночного заключения, питавшие его фантазию только мыслями о будущем, развили ее до необыкновенных размеров. Виталий, обсуждая какое-нибудь событие, которое должно было, по его мнению, скоро случиться, видел сразу многие его стороны, и изощренное его воображение точно предчувствовало ту неуловимую психологическую оболочку и оболочку внешних условий, в каких оно могло бы происходить. Кроме того, его знание людей и причин, побуждающих их поступать таким или иным образом, было несравненно богаче обычного житейского опыта, естественного для человека его возраста; и это давало ему ту, на первый взгляд почти непостижимую, возможность угадывания, которую я наблюдал лишь у редких и все почему-то случайных моих знакомых. Виталий, впрочем, почти не пользовался ею, потому что был презрительно равнодушен к судьбе даже близких своих родственников, - и его доброта и снисходительность объяснялись, как мне казалось, этим, почти всегда одинаковым и безразличным, отношением ко всем. - Я очень любил твоего отца, - сказал Виталий, не отвечая на мой вопрос, - хотя он смеялся всегда над тем, что я офицер и кавалерист. Но он был, пожалуй, прав. Я и тебя люблю, - продолжал он. - И вот перед твоим отъездом я хочу сказать тебе одну вещь: обрати на нее внимание. Я не знал, что Виталий мне хочет сказать, в мое отношение к нему как-то не вмещалась мысль о том, что он может интересоваться мной и советовать мне что бы то ни было: он предпочитал всегда бранить меня за мое непонимание чего-нибудь или за любовь к разговорам на отвлеченные темы, в которых я, по его словам, ничего не смыслил; и однажды он чуть не до слез смеялся, когда я ему сказал, что прочел Штирнера и Кропоткина, а в другой раз он сокрушенно качал головой, узнав о моем пристрастии к искусству Виктора Гюго; он презрительно отозвался об этом, как он выразился, человеке с ухватками пожарного, душой сентиментальной дуры и высокопарностью русского телеграфиста. - Послушай меня, - говорил между тем Виталий. - Тебе в ближайшем будущем придется увидеть много гадостей. Посмотришь, как убивают людей, как вешают, как расстреливают. Все о не ново, не важно и даже не очень интересно. Но вот что я тебе советую: никогда не становись убежденным человеком, не делай выводов, не рассуждай и старайся быть как можно более простым. И помни, что самое большое счастье на земле - это думать, что ты хоть что-нибудь понял из окружающей тебя жизни. Ты не поймешь, тебе будет только казаться, что ты понимаешь; а когда вспомнишь об этом через несколько времени, то увидишь, что понимал неправильно. А еще через год или два убедишься, что и второй раз ошибался. И так без конца. И все-таки это самое главное и самое интересное в жизни. - Хорошо, - сказал я. - Но какой же смысл в этих постоянных ошибках?.. - Смысл? - удивился Виталий. - Смысла, действительно, нет, да он и не нужен. - Этого не может быть. Есть закон целесообразности. - Нет, мой милый, смысл - это фикция, и целесообразность - тоже фикция. Смотри: если ты возьмешь ряд каких-нибудь явлений и станешь их анализировать, ты увидишь, что есть какие-то силы, направляющие их движения; но понятие смысла не будет фигурировать ни в этих силах, ни в этих движениях. Возьми какой-нибудь исторический факт, случившийся в результате долговременной политики и подготовки и имеющий вполне определенную цель. Ты увидишь, что с точки зрения достижения этой цели и только этой цели такой факт не имеет смысла, потому что одновременно с ним и по тем же, казалось бы, причинам произошли другие события, вовсе непредвиденные, и все совершенно изменили. Он посмотрел на меня; мы шли меж двух рядов деревьев, и было так темно, что я почти не видел его лица. - Слово "смысл", - продолжал Виталий, - не было бы фикцией только в том случае, если бы мы обладали точным знанием того, что когда мы поступим так-то, то последуют непременно такие, а не иные результаты. Если это не всегда оказывается непогрешимым даже в примитивных, механических науках, при вполне определенных задачах и столь же определенных условиях, то как же ты хочешь, чтобы оно было верным в области социальных отношений, природа которых нам непонятна, или в области индивидуальной психологии, законы которой нам почти неизвестны? Смысла нет, мой милый Коля. - А смысл жизни? Виталий вдруг остановился, точно его задержали. Было совсем темно, сквозь листья деревьев едва виднелось небо. Оживленные места парка и город остались далеко внизу; слева синела Романовская гора, покрытая елями. Она казалась мне синей, хотя теперь, в темноте, глаз должен был видеть ее черной, но я привык смотреть на нее днем, когда она действительно синела; и тогда вечером я пользовался моим зрением только для того, чтобы лучше вспомнить контуры горы, а синева ее была уже готова в моем воображении вопреки законам света и расстояния. Воздух был очень чистый и свежий; и опять, как всегда, в тишине до меня явственнее доносился далекий и протяжный звон, замирающий наверху. - Смысл жизни? - печально переспросил Виталий, и в его голосе мне послышались слезы, и я не поверил себе; я думал всегда, что они неизвестны этому мужественному и равнодушному человеку. - У меня был товарищ, который тоже спрашивал меня о смысле жизни, сказал Виталий, - перед тем как застрелиться. Это был мой очень близкий товарищ, очень хороший товарищ, - сказал, часто повторяя слово "товарищ" и как бы находя какое-то призрачное утешение в том, что это слово теперь, много лет спустя, звучало так же, как раньше, и раздавалось в неподвижном воздухе пустынного парка. - Он был тогда студентом, а я был юнкером. Он все спрашивал: зачем нужна такая ужасная бессмысленность существования, это сознание того, что если я умру стариком и, умирая, буду отвратителен всем, то это хорошо, - к чему это? Зачем до этого доживать? Ведь от смерти мы не уйдем, Виталий, ты понимаешь? Спасения нет. - Нет! - закричал Виталий. - Зачем, - продолжал он, - становиться инженером, или адвокатом, или писателем, или офицером, зачем такие унижения, такой стыд, такая подлость и трусость? - Я говорил ему тогда, что есть возможность существования вне таких вопросов: живи, ешь бифштексы, целуй любовниц, грусти об изменах женщин и будь счастлив. И пусть Бог хранит тебя от мысли о том, зачем ты все это делаешь. Но он не поверил мне, он застрелился. Теперь ты спрашиваешь меня о смысле жизни. Я ничего не могу тебе ответить. Я не знаю. В тот день мы вернулись домой очень поздно, и когда сонная горничная подала нам на террасу чай, Виталий посмотрел на стакан, поднял его, поглядел сквозь жидкость на электрическую лампочку - и долго смеялся, не говоря ни слова. Потом он пробормотал насмешливо: смысл жизни! - и вдруг нахмурился и потемнел и ушел спать, не пожелав мне спокойной ночи. Когда, спустя некоторое время, я уезжал из Кисловодска, с тем, чтобы, добравшись до Украины, поступить в армию, Виталий попрощался со мной спокойно и холодно, и в его глазах опять было постоянно-равнодушное выражение, готовое тотчас же перейти в насмешливое. Мне же было жаль покидать его, потому что я его искренне любил, - а окружающие его побаивались и не очень жаловали. - Каменное сердце, - говорила о нем его жена, - Жестокий человек, - говорила тетка. - Для него нет ничего святого, - отзывалась его невестка. Никто из них не знал настоящего Виталия. Уже потом, размышляя об его печальном конце и неудачливой жизни, я жалел, что так бесцельно пропал человек с громадными способностями, с живым и быстрым умом, - и ни один из близких даже не пожалел его. Расставаясь с ним, я знал, что вряд ли мы потом еще встретимся, мне хотелось обнять Виталия и попрощаться с ним, как с близким мне человеком, а не просто знакомым, явившимся на вокзал. Но Виталий держался очень официально; и когда он щелчком пальцев сбросил пушинку со своего рукава, то по этому одному движению я понял, что прощаться так, как я хотел сначала, было бы нелепо и ridicule(1). Он пожал мне руку, и я уехал. Была поздняя осень, и в холодном воздухе чувствовались печаль и сожаление, характерные для всякого отъезда. Я никогда не мог привыкнуть к этому чувству; всякий отъезд был для меня началом нового существования. Нового существования - и, следовательно, необходимости опять жить ощупью и искать среди новых людей и вещей, окружавших меня, такую более или менее близкую мне среду, где я мог бы обрести прежнее мое спокойствие, нужное для того, чтобы дать простор тем внутренним колебаниям и потрясениям, которые одни сильно занимали меня. Затем мне было еще жаль покидать города, в которых я жил, и людей, с которы- --------------------------------------(1) смешно (фр.). ми я встречался, - потому что эти города и люди не повторятся в моей жизни; их реальная, простая неподвижность и определенность раз навсегда созданных картин так была не похожа на иные страны, города и людей, живших в моем воображении и мною вызываемых к существованию и движению. Над одними у меня была власть разрушения и создавания, над другими только клубилась моя память, мое бессильное знание; и оно было недостаточным даже для того угадывания, даром которого обладал дядя Виталий. Я видел еще некоторое время его фигуру на перроне; но уже исчезал Кисловодск, и звуки, доносившиеся с его вокзала, тонули в железном шуме поезда; и когда я приехал в тот город, где учился и жил зимой, то увидел, что идет снег, мелькающий в свете фонарей; на улицах кричали лихачи, гремели трамваи, и освещенные окна домов проезжали мимо меня, обходя широкую ватную спину извозчика, который взбрасывал вверх локти рук, державших вожжи, беспорядочными и суетливыми движениями, похожими на дерганье рук и ног игрушечных деревянных паяцев. Я прожил тогда в этом городе неделю перед отправкой моей на фронт; я проводил время в том, что посещал театры и кабаре и многолюдные рестораны с румынскими оркестрами. Накануне того дня, когда я должен был уехать, я встретил Щура, моего гимназического товарища; он очень удивился, увидав меня в военной форме. - Уж не к добровольцам ли ты собрался? - спросил он. И когда я ответил, что к добровольцам, он посмотрел на меня с еще большим изумлением. - Что ты делаешь, ты с ума сошел? Оставайся здесь, добровольцы отступают, через две недели наши будут в городе. - Нет, я уж решил ехать. - Какой ты чудак. Ведь потом ты сам будешь жалеть об этом. - Нет, я все-таки поеду. Он крепко пожал мне руку. - Ну, желаю тебе не разочароваться. Спасибо, я думаю, не придется. - Ты веришь в то, что добровольцы победят? - Нет, совсем не верю, потому и разочаровываться не буду. Вечером я прощался с матерью. Мой отъезд был для нее ударом. Она просила меня остаться; и нужна была вся жестокость моих шестнадцати лет, чтобы оставить мать одну и идти воевать - без убеждения, без энтузиазма, исключительно из желания вдруг увидеть и понять на войне такие новые вещи, которые, быть может, переродят меня. - Судьба отняла у меня мужа и дочерей, - сказала мне мать, - остался один ты, и ты теперь уезжаешь. - Я ничего не отвечал. - Твой отец, - продолжала мать, - был бы очень огорчен, узнав, что его Николай поступает в армию тех, кого он всю жизнь не любил. - Дядя Виталий мне говорил то же самое, - ответил я. Ничего, мама, война скоро кончится, я опять буду дома. - А если мне привезут твой труп? - Нет, я знаю, меня не убьют. - Она стояла у двери в переднюю и молча смотрела на меня, медленно открывая и закрывая глаза, как человек, который приходит в себя после обморока. Я взял в руки чемодан; одна застежка его зацепилась за полу моего пальто, и, видя, что я не могу ее отцепить, мать вдруг улыбнулась: и это было так неожиданно - потому что она редко улыбалась, даже тогда, когда другие смеялись, и, конечно, зацепившаяся пола пальто никогда бы не могла рассмешить ее - и столько в этой улыбке было разных чувств - и сожаления, и сознания невозможности устранить мой отъезд, и мысль об одиночестве, и воспоминание о смерти отца и сестер, и стыд перед подступающими слезами, и любовь ко мне, и вся та долгая жизнь, которая связывала мать со мной от моего рождения до этого дня, что Екатерина Генриховна Воронина, присутствовавшая при нашем прощании, вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Когда, наконец, за мной закрылась дверь и я подумал, что, может быть, никогда больше не войду в нее и мать не перекрестит меня, как только что перекрестила, - я хотел вернуться домой и никуда не ехать. Но было слишком поздно, та минута, в которую я мог это сделать, уже прошла; я был уже на улице, - я вышел на улицу, и все, что было до сих пор в моей жизни, осталось позади меня и продолжало существовать без меня; мне уже не оставалось там места - и я точно исчез для самого себя. Много времени спустя я вспомнил еще, что в тот вечер шел снег, засыпая улицы. А через два дня путешествия я был уже в Синельникове, где стоял бронированный поезд "Дым", на который я был принят в качестве солдата артиллерийской команды. Был конец тысяча девятьсот девятнадцатого года; с той зимы я перестал быть гимназистом Соседовым, перешедшим в седьмой класс, перестал читать книги, ходить на лыжах, делать гимнастику, ездить в Кисловодск и видеть Клэр; и все, что я делал до сих пор, стало для меня только видением памяти. Впрочем, и в эту новую жизнь я принес с собой давние мои привычки и странности; и подобно тому, как дома и в гимназии значительные события нередко оставляли меня равнодушным, а мелочи, которым, казалось бы, не следовало придавать значения, были для меня особенно важны, - так и во время гражданской войны бои и убитые и раненые прошли для меня почти бесследно, а запомнились навсегда только некоторые ощущения и мысли, часто очень далекие от обычных мыслей о войне. Самое лучшее мое воспоминание, относящееся к этому времени, заключалось в том, как однажды меня послали на наблюдательный пункт, находившийся на верхушке дерева, в лесу, - и оставили одного, а бронепоезд ушел за несколько верст назад набирать воду. Был сентябрь месяц, зелень уже желтела. Опушку, где был наблюдательный пункт, обстреливали неприятельские батареи, и снаряды пролетали над деревьями с необыкновенным воем и гудением, какого никогда не бывает, если снаряд летит над полем. Дул ветер, верхушка дерева раскачивалась; маленькая белка с быстрыми глазами, что-то жевавшая теми смешными, частыми движениями челюстей, которые свойственны только грызунам, вдруг заметила меня, очень испугалась и мгновенно перепрыгнула на другое дерево, расправив свой желтый пушистый хвост и на секунду повиснув в воздухе. Далеко-далеко стояла батарея, обстреливавшая лес, - и я видел только тусклое красное пламя коротких вспышек, вырывавшихся из орудий при каждом выстреле. Шумели листья от ветра, внизу стрекотал неизвестно откуда взявшийся кузнечик и вдруг умолкал, словно ему зажимали рот ладонью. Было так хорошо и прозрачно, и все звуки доходили до меня так ясно, и в маленьком озере, которое мне было видно сверху, так сверкала и рябилась вода, что я забыл о необходимости следить за вспышками и движением неприятельской кавалерии, о присутствии которой нам сообщила разведка, и о том, что в России происходит гражданская война, а я в этой войне участвую. На войне мне впервые пришлось столкнуться с такими странными состояниями и поступками людей, которых я, наверное, никогда не увидел бы в других условиях, и прежде всего наблюдать самую ужасную трусость. Она никогда не вызывала, однако, во мне ни малейшего сожаления к тем, кто ее испытывал. Я не понимал, как может плакать от страха двадцатипятилетний солдат, который во время сильного обстрела и после того, как в бронированную площадку, где мы тогда находились, попало три шестидюймовых снаряда, исковеркавших ее железные стены и ранивших несколько человек, - ползал по полу, рыдал, кричал пронзительным голосом: ой, Боже ж мой, ой, мамочка! - и хватал за ноги других, сохранивших спокойствие. Я не понял, почему его страх вдруг передался офицеру, командовавшему площадкой, человеку вообще очень храброму, который закричал механику: полный ход назад! - хотя никакой новой опасности не представлялось и снаряды неприятельской артиллерии продолжали все так же ложиться вокруг бронепоезда. Я не мог бы сказать, что во время боев мне никогда не приходилось испытывать страха, но это было такое чувство, которое легко подчинялось рассудку; и так как в нем не было никакого сладострастия или соблазна, то преодолеть его было нетрудно. Я думал, что, помимо этого, сыграло роль еще и другое обстоятельство: в те времена - так же, как и раньше и потом, - я по-прежнему не владел способностью немедленного реагирования на то, что происходило вокруг меня. Эта способность чрезвычайно редко во мне проявлялась - и только тогда, когда то, что я видел, совпадало с моим внутренним состоянием; но преимущественно то были вещи, в известной степени, неподвижные и вместе с тем непременно отдаленные от меня; и они не должны были возбуждать во мне никакого личного интереса. Это мог быть медленный полет крупной птицы, или чей-то далекий свист, или неожиданный поворот дороги, за которым открывались тростники и болота, или человеческие глаза ручного медведя, или в темноте летней густой ночи вдруг пробуждающий меня крик неизвестного животного. Но во всех случаях, когда дело касалось моей участи или опасностей, мне угрожавших, заметнее всего становилась моя своеобразная глухота, которая образовывалась вследствие все той же неспособности немедленного душевного отклика на то, что со мной случалось. Она отделяла меня от жизни обычных волнений и энтузиазма, характерных для всякой боевой обстановки, которая вызывает душевное смятение. Многих это душевное смятение всецело захватывало - как трусливых, так и храбрых. Но особенно чувствительны были простые люди, крестьяне, сельские рабочие; у них и храбрость, и страх выражались сильнее всего и доходили до равной степени отчаяния - в одних случаях спокойного, в других безумного, - как будто это было одно и то же чувство, только направленное в разные стороны. Те, которые были очень трусливы, боялись смерти потому, что сила их слепой привязанности к жизни была необычайно велика; те, которые не боялись, обладали той же странной жизненной силой - потому что только душевно сильный человек может быть храбрым. Но это загадочное могущество облекалось в разные формы, которые были так не схожи между собой, как жизнь паразитов и тех, на чей счет они кормятся. И потому, что, с одной стороны, все, кого я знал и видел из прежних моих наставников и знакомых, внушали мне всю жизнь презрение к трусости и долг мужества и я никогда в этом не сомневался - и, с другой стороны, в силу недостаточного моего ума, который не мог постигнуть душевного состояния трусов, - и недостаточно богатых чувств, в которых я мог бы найти подобные состояния, - я относился к ним с отвращением, особенно усиливавшимся в тех случаях, когда трусливыми были не солдаты, а офицеры. Я видел, как один из них во время сильного боя, вместо того чтобы командовать пулеметами, забился под груду тулупов, лежавших внутри площадки, заткнул пальцами уши и не вставал до тех пор, пока сражение не кончилось. Другой раз второй офицер пулеметной команды тоже лег на пол, закрыв лицо ладонями; и, хотя была зима и железный пол был очень холоден, - едва не прилипали пальцы, - он пролежал так около двух часов и даже не простудился, - наверное, потому, что сильнейшее действие страха создавало ему какой-то мгновенный иммунитет. Третий раз, когда над базой - так назывался поезд, в котором жили солдаты и офицеры, приехавшие с фронта для смены, потому что было две смены - одна на передовых линиях, другая в тылу; они чередовались каждые две недели, и, кроме этого, вся нестроевая часть, то есть солдаты, работавшие на кухне, офицеры, занимавшие административные и хозяйственные должности, жены офицеров, писаря, интенданты и около двадцати женщин, числившихся прачками, судомойками и уборщицами офицерских вагонов; это были женщины случайные, подобранные на разных станциях и соблазненные комфортом базы, теплыми вагонами, электричеством, чистотой, обильной пищей и жалованьем, которое они получали взамен нетрудных своих обязанностей и требовавшейся от них прежде всего чисто женской благосклонности, - когда над базой, стоявшей, как всегда, на сорок верст в тылу, появился неприятельский аэроплан и начал сбрасывать бомбы, поручик Борщов, фельдфебель бронепоезда, посмотрел на небо, торопливо перекрестился и полез на четвереньках под вагон, не стесняясь того, что окружающие видели это. Тогда же из одного вагона выскочил артельщик Михутин, хитрый мужик и вор, никогда не бывавший в бою; он спрыгнул с подножки вагона и, не оглядываясь по сторонам, побежал по полю, достиг водокачки и быстро в ней скрылся. Ни одна из сброшенных бомб в базу не попала, как этого и следовало ожидать; вообще же единственная бомба, причинившая вред, разрушила часть той самой водокачки, на которой сидел Михутин. Его, правда, не ранило, но сильно побило кирпичами: толстое лицо его, с брюзгливым свиным выражением, было в синяках, одежда была выпачкана белой известкой, и когда он вернулся в таком виде к себе, его подняли на смех, что, впрочем, его совершенно не устыдило, так как чувство страха было в нем непобедимым. Другой солдат, Тиянов, широкоплечий мужчина, свободно крестившийся двухпудовой гирей, был настолько боязлив, что, выехав впервые на фронт и услыхав отдаленные выстрелы пушек, он спрыгнул с полуторасаженной высоты площадки вниз и хотел бежать обратно, в базу, но не мог из-за вывихнутой ноги; вывиху ноги он очень обрадовался, так как его действительно отправили в тыл. Он же как-то во время обстрела - ему пришлось все-таки ездить на фронт - упал в обморок и лежал с бледным лицом, не шевелясь; но когда я случайно взглянул в его сторону, а он этого не ожидал, я увидел, как он быстро открыл глаза, посмотрел вокруг и сейчас же закрыл их. Но, наряду с такими людьми, я знал иных. Полковник Рихтер, командир бронепоезда "Дым", лежал, я помню, на крыше площадки, между двумя рядами гаек, которыми были свинчены отдельные части брони. Неприятельский снаряд, с визгом скользнув по железу, сорвал все скрепы, бывшие слева от полковника; он даже не обернулся, лицо его оставалось неподвижным, и я не заметил решительно никакого усилия, которое он должен был сделать, чтобы сохранить хладнокровие. Старший офицер артиллерийской команды, поручик Осипов, сойдя однажды с площадки, чтобы осмотреть позиции, и выйдя в поле, попал между двух цепей пехотных солдат - с одной стороны лежала цепь красных, с другой - белых. Обе, не зная, кто это такой, - красные приняли его за белого, белые - за красного, - стали по нем стрелять, и мы видели с площадки, как столбики пыли каждую секунду прыгали рядом с его ногами. Он все так же продолжал идти вперед, не обращая на пули никакого внимания; затем вернулся назад: одна пуля слегка оцарапала ему руку. Солдат Филиппенко во время боя пел тихие украинские песни, пытался заводить неторопливый разговор с другими и печально удивлялся, когда в ответ слышал ругательства: он не понимал ни нервного возбуждения, владевшего людьми, ни их страха. - Ты не боишься, Филиппенко? - спрашивал его командир. - А чего бояться? - удивленно говорил Филиппенко. - Боязно ночью на кладбище, вот то боязно. А днем не боязно. Но одним из самых смелых людей, каких я когда-либо видел, был солдат Данил Живин, которого все звали Данько. Он был добродушный, худой, маленький человек, большой любитель посмеяться и хороший товарищ. Он был в такой степени лишен честолюбия и так был способен забывать о себе для других, что это казалось невероятным. Он пережил множество приключений, служил во всех армиях гражданской войны - у красных, у белых, у Махно, у гетмана Скоропадского, у Петлюры и даже в отряде эсера Саблина, просуществовавшем всего несколько дней. Его служба на бронепоезде была прервана тем, что он попал в плен к Махно - вместе со всей командой, находившейся в тот раз на фронте. У Махно его назначили в особую роту пехотного полка, охранявшую мост через Днепр. Мост, длиной в версту и три четверти, был занят с одной стороны махновцами, с другой - белыми. На обоих его концах стояли устремленные друг на друга пулеметы. Данько, попавший на сторожевой пост со стороны махновцев, решил вернуться на бронепоезд. Он отослал в землянку подчаска, взял свой пулемет на плечи и пошел по мосту в сторону добровольцев, которые тотчас же открыли ожесточенную стрельбу. Данько, невзирая на это, продолжал двигаться, точно шел не по узкому пространству, пронизываемому десятками пуль в секунду, а по спокойному российскому болыпаку, ведущему откуда-нибудь из Тулы в Орел. Его подчасок, обеспокоившись такой неожиданной стрельбой, выбежал из землянки и, увидев уходящего Данько, тоже принялся палить в него из второго пулемета. Данько перешел мост, даже не будучи ранен. Его арестовали белые, и какие-то глупые пехотные офицеры - два штабс-капитана - приняли его за шпиона и хотели расстрелять. Данько разразился страшными ругательствами с упоминанием Господа Бога и апостолов; это бы ему не помогло, если бы с площадки бронепоезда, стоявшего неподалеку, не пошли узнать, в чем дело. И поручик Осипов увидал оборванного Данько, оравшего на пехотных офицеров и хватающегося то за револьвер, то за винтовку. После вмешательства бронепоездного офицера его отпустили, сказав, что такого недисциплинированного солдата они еще не видели. - Я... вашу дисциплину! закричал Данько. - Как же ты, Данько, не испугался? - спрашивали его уже после того, как он был переодет и накормлен и сидел у печи теплушки, куря папиросу из табака Стамболи. - Кто не испугался? - ответил Данько. - О, я очень испугался. - В другой раз Данько, отправившийся на разведку, опять угодил в плен, потому что пришел в деревню, занятую красными, вошел в избу, начал балагурить с хозяйкой и поинтересовался тем, есть ли в деревне большевики или, может быть, нету, - за несколько секунд до неожиданного появления трех красноармейцев. Данько не успел даже схватиться за винтовку. Его обезоружили, заперли в сарай, приставили к сараю стражу, и Данько приговорили к высшей мере наказания. И все-таки через три дня, отыскав базу своего бронепоезда, успевшую уехать за шестьдесят верст, Данько явился как ни в чем не бывало. Я присутствовал при его разговоре с командиром. Ты где был, Данько? - А в плену. - Как же ты попал в плен? - Красные арестовали. - И они тебе ничего не сделали? - Ни, они хотели меня расстрелять. - А ты что? - А я убежал. - Как же тебе удалось? - Убил часового и убежал. - И не поймали тебя? - Ни, - сказал Данько, - я шибко бежал, - и рассмеялся. Мне же мысль о том, что Данько мог убить часового, казалась странно не соответствовавшей его характеру. По-видимому, это было для него просто необходимо; и, конечно, инстинкт самосохранения заглушил в нем возможность размышления - следует ли убивать часового или нет, - и если бы не этот инстинкт, Данько давно не было бы в живых. Он был очень молод и несерьезен, как говорили про него солдаты: он рассмешил однажды всю команду бронепоезда, гоняясь за маленьким белым поросенком, которого он где-то купил; он долго бежал за ним, кричал на него и пытался накрыть его шапкой; он свистел, размахивал руками на бегу, и мы следили за ним до тех пор, пока и он, и поросенок не скрылись с глаз. Вечером он вернулся, ведя за веревку свинью, на которую он ухитрился выменять поросенка. Над ним шутили и говорили, что за время долгой погони Данько поросенок успел вырасти. Данько смеялся, держа в руках шапку и потупившись. Он был веселый, бесконечно добрый и бесконечно отчаянный человек. - Данько, ты поехал бы на северный полюс? - спрашивал я. - А там интересно? - Очень интересно и много белых медведей. - А, ни, - сказал он, - я медведей боюсь. - Почему же ты их боишься? Они тебя к высшей мере не приговорят. А они укусят, - ответил Данько и засмеялся. Он не мог отвыкнуть говорить мне вы. - Данько, - объяснял я ему, - ты такой же солдат, как и я. Почему ты мне говоришь вы? Ты можешь ведь разговаривать со мной, как с Иваном, это был его приятель. - Не могу, - отвечал Данько, - совестно. - Этот Иван, умный хохол, спокойный и храбрый солдат, спросил меня как-то: - Что такое Млечный Путь? - Почему это вас вдруг заинтересовало? - А меня солдаты спрашивают: Иван, что там в небе, как молоко? Я говорю: Млечный Путь. А что такое Млечный Путь, не знаю. - Я объяснил ему, как мог. На следующий день он опять подошел ко мне: - А скажите мне, пожалуйста, чему равняется длина окружности? - Она определяется специальными математическим терминами, - говорил я. - Не знаю, будут ли они вам понятны. - И я привел ему формулу длины окружности. - Ага, - подтвердил он с довольным видом. - А я вас нарочно пытал, думал, может, не знаете. Я раньше спросил у вольноопределяющегося Свирского, а потом записал и пришел вас пытать. Он был прекрасным рассказчиком; и в среде так называ
Похожие книги на "Вечер у Клэр", Гайто Газданов
Гайто Газданов читать все книги автора по порядку
Гайто Газданов - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mybooks.club.