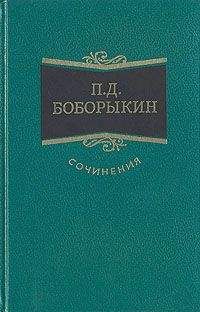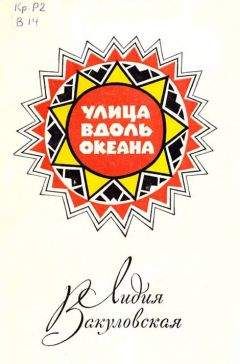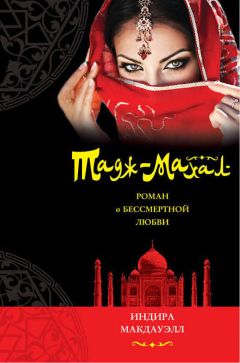Митрофан Саввич поклонился всем небрежно и торопливо и сел рядом с шурином. Он его почитал и постоянно ему поддакивал. Анна Серафимовна знала наперед, как он будет себя вести: сначала посидит молча, будет жадно «хлебать» щи и громко жевать сухую еду, а там вдруг что-нибудь скажет насчет политики или биржи и начнет кричать сильнее, чем Любаша, точно его кто больно сечет по голому телу; прокричавшись, замолчит и впадет в тупую угрюмость. Если за столом сидит кто, играющий на каком-нибудь инструменте, он заговорит о своем корнет-пистоне. Играет он целые дни по возвращении домой, собрал на своей половине целую коллекцию медных инструментов, а когда устанет, призовет двух артельщиков и приказывает им действовать на механическом фортепьяно. С десяти до четырех он сортирует товар: марену, кубовую краску, буру, бакан, кошениль, скипидар, керосин. В этом он считается большим докой. Перед обедом бывает на бирже. Анна Серафимовна все это знала и почему-то каждый раз говорила себе: "А ведь свезут его когда-нибудь в Преображенскую больницу". Не прошло и пяти минут, как Митроша выпил квасу и уже кричал высокой фистулой по поводу какой-то депеши об англичанах:
— Торгаши проклятые!.. Опять гадить!.. Уж мы их припрем!.. Эти самые текинцы! Откуда взялись текинцы? Биконсфильд!.. Жидовское отродье! И вдруг в лорды произвели! С паршами-то!
Помощник присяжного поверенного повернул голову в своих высоких стоячих воротниках при крике "жидовское отродье". И «парши» ему не пришлись по вкусу. В другом месте он напомнил бы, что и Спиноза был тоже "с паршами", но полтораста тысяч… все полтораста тысяч…
Любаша наклонилась к нему и сказала громким шепотом:
— Пускай его!.. Сейчас клапан-то закроется! У него ведь это вдруг!..
Девицы хотели расхохотаться, но просидели тихо: каждая имела тайные виды на Митрошу.
Шурин согласился с ним. Молодежь слышала, как он с каким-то даже щелканьем своих белых зубов сказал:
— Пустить надо грамоты! Индийский народ за нас.
"Что за столпотворение вавилонское", — подумала Анна Серафимовна. Ее начало давить, как во сне, когда вас "домовой", — так ей рассказывала когда-то няня, — душит своей мохнатой лапой.
Рыба на длинной деревянной доске, покрытой салфеткой, следовала за пирогом. Соус «по-русски» подавала горничная особо. Любаша, как и все, кроме Анны Серафимовны, — ее научил муж, — ела всякую рыбу ножом и крошила ее, точно она сбирается мастерить тюрю. Никто не услыхал, как в дверях залы показался новый гость, высокого роста, с волосами и бородкой каштанового цвета и пробритой губой, что могло бы придавать ему наружность голландского или шведского шкипера. Но черты его загорелого лица были чисто русские, не очень крупные. Круглый нос и светло-серые глаза, сочные губы и широкий подбородок — все это отзывалось Поволжьем. Вокруг рта и под носом появлялись мелкие складки юмора.
Он держал в руках шотландскую шапочку. На нем плотно сидел клетчатый коричневый сьют. Его сапоги на двойных подошвах издавали сильный скрип.
— Сеня! — первая увидала его Любаша, бросила салфетку, не утеревшись, и вскочила из-за стола.
— Опять тринадцать будет! — крикнула девица Селезнева.
Приживалку посадили на прежнее место. Было немало хохоту. Новый гость пожал руку Марфе Николаевне, Любаше, ее брату и шурину. Его посадили рядом с Анною Серафимовною.
Их перезнакомили. Действительно, он приходился в одинаковом дальнем родстве и покойному мужу Марфы Николаевны, и ей самой, и, стало быть, и Анне Серафимовне. Тетка припомнила племяннице, что они "с Сеней" игрывали и даже «дирались», за что Сеню раз больно «выдрали». Анна Серафимовна незаметно, но внимательно оглядела его.
— Как вас звать? — тихо спросила она под шум голосов и стук ножей.
— Купеческий брат Любим Торцов, — пошутил он. Говор его не то что отзывался иностранным акцентом, а звучал как-то особенно, пожестче московского.
— Нет, по отчеству?
— Тихоныч! — уже совсем по-купечески произнес он и даже на «о» сильнее, чем она произносила.
Это ей понравилось.
— Вы на Волге все жили? — спросила она.
— На Волге… десять лет невступно.
— Ведь я старше вас? — ласково выговорила она и в первый раз подольше остановила на нем свои глаза.
Рубцов тоже уставил глаза в ее брови: он таких давно не видал.
— Ну, вряд ли, — бойко, немного хриповатым голосом ответил он… — Мне двадцать шестой пошел. Я вот Митрофана на два года моложе.
— А я вас на два года старше…
Ей и то почему-то было приятно, что она старше его… На вид он смотрел тридцатилетним.
— И вы, — продолжала она понемногу спрашивать, — давно с Волги-то?
— …Да семь годов будет… Аттестат зрелости не угодил получить. Вы нешто не слыхали? Отец в делах разорился в лоск… И мать вскорости умерла. Сестра в Астрахани замужем. Вот я, спасибо доброму человеку, и уехал за море.
— В Англии всё были?
— И в Америке тоже. Какие крохи оставались — я махнул на них рукой… Да вы что же все про меня? Вы лучше про себя расскажите. Вон вы, сестричка, какая… Вы не обидитесь? Я вас, помню, так звал.
— Зовите… И по какой же вы там части?
— Да по всякой… Кой-чему научился как следует. Из фабричного дела — суконное знаю порядочно.
— Суконное? — вскричала Анна Серафимовна.
— А что?
— Как это славно!
— Не хотите ли меня брать?
— Что же?
— Смотрите! Дорог я!
Он рассмеялся, и она с ним. Им стало ловко, весело, они сейчас почувствовали, что во всем обеде только между собою и могут вести они разговор людей, понимающих друг друга. Появление этого «братца» сегодня — после сцены в амбаре, пред открывающейся перед нею вереницей деловых забот и одиночества — разом освежило Анну Серафимовну… Недаром, точно по предчувствию, спешила она к тетке. Ей, конечно, было бы приятнее найти в Семене Тихоновиче побольше изящества в манерах и в говоре; но и так он для нее был подходящий человек… В нем она учуяла характер и живой ум. Такой малый не выдаст… Остался мальчиком в погроме дел отца, не пропал, учился, побывал в Америке… Не шутка! И все-таки не важничает, не тычет в нос заграницей, говорит сильно на «о», напоминает ей своим тоном детство. Да еще моложе ее на два года!..
Любаша с прихода Рубцова заметно притихла. Она прислушивалась к разговору его с Анной Серафимовной, начала насмешливо улыбаться, от жареного — подавали индейку, чиненную каштанами, — отказалась и сложила даже руки на груди, а рот вытерла старательно салфеткой. Она не нападала на этого «братца» так смело, как на шурина, а больше отшучивалась.
За пирожным — яблочный пирог со сливками — Рубцов, видя, как она пустила шарик в нос одному из техников, сказал ей тоном взрослого с девочкой:
— Без пирожного оставим!.. Который годок-то?
— Двадцать лет! — ответила она и хотела ему показать язык.
— Хорошо, что я сегодня здесь около бабушки сижу, — обратился он к Анне Серафимовне, — а то кузиночка-то все книжками меня пужает. Все насчет обмена веществ… Штофвексель.[34] Из физиологии-с!..
— Я вижу, что тебе хорошо там — присоседился, — подхватила Любаша и начала шептаться с подругами.
Все три девицы встали из-за стола, гремя стульями. Любаша, когда приходилось «прикладываться» — так она называла целование руки у матери, — не могла не заметить Рубцову и Анне Серафимовне:
— Вас теперь, я вижу, и водой не разольешь.
— Что мы, собаки, что ли? — возразил Рубцов. — Эх, кузиночка! А еще Гамбетту видели живого.
Все перешли в гостиную; но Любаша и остальная молодежь, видя, что Рубцов отошел к окну вместе с Анною Серафимовною, потащила всех в мезонин, где помещался бильярд. Митроша сел с шурином играть в карты в вист. Для этого приглашена была одна из приживалок — майорша. Марфа Николаевна отдыхала после обеда с полчасика. За стол сели поздно, и глаза у ней слипались.
Она тихо подошла к племяннице, взяла ее за плечи, поцеловала в лоб и поглядела на Рубцова, стоявшего немного поодаль.
— Видишь, Сеня, сестрица-то у тебя какая?
И старуха нежно погладила племянницу по волосам. Глаза Анны Серафимовны так и горели в полусвете гостиной, где лампа и две свечи за карточным столом оставляли темноту по углам.
Рубцов загляделся на свою "сестрицу".
— Вам, тетенька, бай-бай? — спросила Анна Серафимовна.
— Я на полчасика… Ты посидишь?
— Детей я не видала с утра.
— Не съедят… Ну, я пойду, велю вам сладенького подать.
Тут только Анна Серафимовна вспомнила про ананас. Его сейчас принесли. Тетка была тронута и сказала шепотом:
— Пускай постоит! Тем не стоит давать.
Согнутая спина старухи, с красивыми очертаниями головы, исчезла в дверях следующей комнаты.