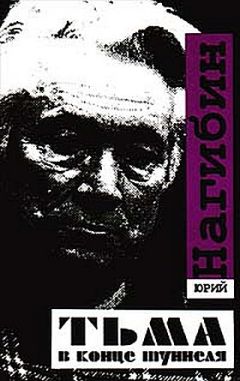- Хороша выдержка! Кинулась, как девчонка, на свидание с зятем. Не стесняясь ни мужа, ни дочери, ни княгини Марьи Алексеевны.
- А это страсть! - сказала Катя каким-то грозным голосом.
И я понял, зачем она завела этот разговор. Она тоже была натурой страстной, затаенной и не прощающей. Пусть она выдумала меня, выдумала все про нас, она в это верила и сейчас осуществляла свою месть. В том, что случилось в семье Звягинцевых, не было ничего ободряющего для меня. Напротив. Не может быть повторного, автоматического взрыва страсти, а Татьяна Алексеевна не переходящее красное знамя, которое вручается ее зятю вместе с рукой дочери.
- Почему же она сейчас так робеет перед Василием Кирилловичем ?
- Ты уверен, что она робеет?
В тоне, каким это было произнесено, таился соблазн принять на веру многозначительную невысказанность. Но я отверг эту возможность, допустив, что Катя сейчас блефует.
- А ее образ жизни? Всегда дома, всегда одна. Не то монастырь, не то тюрьма. Такой компанейский человек!
- Слишком компанейский. Звягинцев этого и боится.
- Она всегда пила?
- До войны вовсе не пила. А потом пошло-поехало. С горя, наверное, что Эдика выгнали.
- Она же могла с ним встречаться?
- Сам же говоришь, что ее заперли. Вот и завивает горе веревочкой.
Тут вернулись провожающие, и разговор оборвался. Разговор простой и грубый, но впечатление оставил сложное. На какие-то минуты я вдруг усомнился в ослепленности Татьяны Алексеевны смазливым, но очень некачественным малым, ее зятем. Даже то, что он не поехал взглянуть на своего ребенка, говорит о полном бездушии... Стоп! Разве приказчик, погубивший Катерину Измайлову, был второй доктор Гааз? Откровенный сукин сын, преступник, отпетый негодяй. Но была молодость, стать, красота, обаятельная мужская наглость. У Эдика - имя-то какое-то футбольно-парикмахерское - все это имелось в избытке.
Татьяна Алексеевна была если не из купеческой, то из торговой среды, где привычное дело - семейный разбор с острым ножиком, удавкой, солеными рыжичками и после поминальных блинов безумные страстные ночи. Старый муж скучающая жена - молодой приказчик - такая же привычная для купечества троица, как французские Брибри, Мабиш и Гюстав, воспетые Достоевским.
Этот поворот мысли опять приводил меня к химерической возможности повторить путь своего предшественника. Но это почему-то не грело. Я перешел в следующий круг ада: мое чувство к Татьяне Алексеевне уже не исчерпывалось физическим влечением. Ее, дачную, в солнечном блеске, я мог только желать, а городскую,в пустой полутемной квартире, вперившуюся черным биноклем в печаль осенней улицы, я жалел едва ли не больше, чем желал. Она проникла мне в душу. И быть просто заменщиком Эдика, заполнить собою оставленную им пустоту мне было мало.
Не стоит пытаться освободить прошлое Татьяны Алексеевны от Эдика. Он был, был этот добрый молодец с горячим конским глазом, и лишь сапог Василия Кирилловича, быстро и метко нашедший его зад, спас семью от безобразного развала. Эдик ушел из физического пространства семьи, но едва ли он ушел из пространства памяти - и любовной, и ненавистной.
Почему инфант никогда не спросит об отце? Не могли же ему внушить, что по приказу всевластного деда его, дивного мальчика, собрали на заводе из импортных частей. Но он никогда не обнаруживал интереса к второму участнику своего появления на свет. Маловероятно, что ему сказали: "Твой папа плохой, он спал с бабушкой. Забудь о нем". Но каким-то образом его заставили забыть о существовании отца. Эдика напрочь вычистили из домашнего обихода, подтверждая тем значительность его былого присутствия.
Но, признав наличие Эдика в жизни Татьяны Алексеевны, я выключил его из себя. Какое мне дело до заполненных ниш, мне надо населить собой одну из тех, что остались свободными.
Продолжало смущать другое: чего-то не хватало в этой истории, что лишало ее художественности. А всякое истинное жизненное событие, даже самое безобразное, художественно. Неправда, недосказанность, утаивание, незнание всех обстоятельств разрушают конструкцию, убивают то естественное искусство, каким является жизнь. Я не понимал" чего мне недостает, вроде бы получено сполна, а мне все мало, мало...
Я еще пребывал в сомнении, как распорядиться полученным от Кати подарком, когда в семье произошло великое событие, впервые на моей памяти осветившее дом радостью без конца и без края.
На состоявшемся в Кремле совещании по развитию промышленности Сталин подошел к Звягинцеву, ткнул его большим пальцем в живот и сказал:
- Ты еще жив, старый пердун?
Звягинцев растерялся и ничего не ответил, только развел руками, подтверждая тем наблюдательность вождя, одновременно извиняясь за свою столь безобразно затянувшуюся жизнь и выражая готовность немедленно пожертвовать ею для дела Ленина-Сталина. Вождь уловил всю эту сложную гамму верноподданнических переживаний и одобрительно кивнул.
Так выглядит это событие в моей интерпретации. Сам же Василий Кириллович начисто исключил игру чувств из своего рассказа; звучал неторопливый, раздумчивый голос летописца, которому важно передать объективную правду исторического события.
Татьяна Алексеевна и Галя бросились его целовать. "А внучок где?" озаботился Василий Кириллович. "Спит, - легкомысленно отозвалась Галя. - Да разве он что поймет? Такая кроха!" - "Ступай за ним, - сказала Татьяна Алексеевна, которая была умнее дочери. - Не сообразили мы, бараньи головы!" - "Надо было соображать", - проигнорировав слова Гали, но отходчиво проворчал Василий Кириллович. Его совет относился впрямую ко мне: я уже подготовил ироническое поздравление. Мне казалось, что надо сохранить расстояние между собой и легким безумием сервилизма, охватившим окружающих. Какой же я был идиот!
Зазвонил в прихожей телефон.
- Трещат не переставая, - с наигранной досадой сказал Василий Кириллович. - Знаешь что, - он обратился ко мне, и это было знаком высокой милости, - подходи сам и решай, звать меня или нет.
Я снял трубку с развязностью фаворита и тут же поджал хвост. Звонил Каганович. Да еще не через секретаря, а собственноручно. Меня оглушил его грубый, непрокашлен-ный голос. Я поспешно подозвал Василия Кирилловича, который воспринял звонок без особого трепета.
- Слушаю вас, Лазарь Моисеевич... Да, я его знаю по средмашу. Хороший специалист, грамотный... Полагаю, что - да! - И совсем другим, растроганным голосом: - Большое спасибо, Лазарь Моисеевич! Поздравляет, - сказал он Татьяне Алексеевне и ушел в спальню переодеваться.
Телефон звонил не переставая. Василия Кирилловича спешили поздравить официальные лица, друзья, знакомые, полузнакомые и даже недруги. Так, позвонил нарком Малышев, его давний и непримиримый враг. Звонили партийные боссы Москвы: Попов и Черноусов, глава партийного контроля, страшный карлик Шкирятов, председатель ВЦСПС Шверник, наркомы: Устинов, Ванников, Ефремов, Акопов, начальник автоколонны Советской Армии Хрулев, маршалы Баграмян и Воронов, директора крупнейших заводов страны: Зальцман, Максарев, Дымшиц и Лоскутов. Последним позвонил из Киева Хрущев. Я называю лишь тех, ради кого я тревожил виновника торжества. А всякую шушеру: генералов, замнаркомов, директоров помельче и всех, без исключения, родственников - я решительно отшивал. Они лопотали извинения, поздравления, приветы - за свою жизнь я не слышал столько засахаренных голосов.
Вечером состоялся грандиозный прием. Василий Кириллович обряжался так долго, тщательно и шумно - он без устали что-то требовал и распекал домашних, что я ожидал увидеть его во фраке, на худой конец - в смокинге, но он вышел под аплодисменты уже собравшихся гостей в галифе, сапогах, белой рубашке с застегнутым воротничком и байковой пижамной куртке.
Гости были при параде: военные - в мундирах, со всеми регалиями, штатские - в выходных костюмах, пошитых в кремлевском ателье, при галстуке. Разодеты были в пух и прах их жены.
Я думал, полудомашний вид Василия Кирилловича покажется оскорбительным присутствующим, - ничуть. Во-первых, он был у себя дома, во-вторых, взысканный так высоко, как никому не грезилось в самых радужных снах, он просто обязан был позволить себе какую-то вольность. Это был знак его отмеченности. А галифе, начищенные сапоги и белая сорочка - дань уважения гостям. Все было по самому строгому этикету.
Когда гости расселись за роскошно сервированным столом, явилась Татьяна Алексеевна и заняла место рядом с мужем. На ней был немыслимо роскошный туалет, сшитый, по-моему, за сегодняшний день силами всего ателье под неимоверную продуктово-водочную выдачу. Я не берусь судить, насколько ее вечернее платье соответствовало последней парижской моде, но шло ей необычайно и покроем, подчеркивающим все достоинства ее убедительной фигуры, и сочетанием лиловых и черных тонов. Гости дружно зааплодировали. И тут раздался хрипловатый голос Василия Кирилловича: