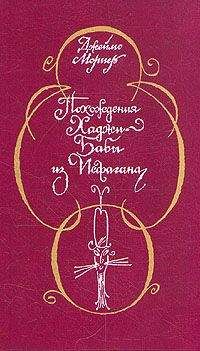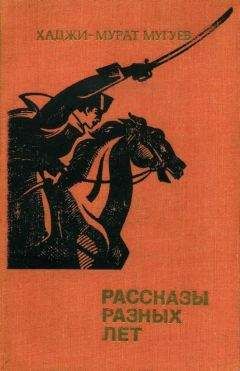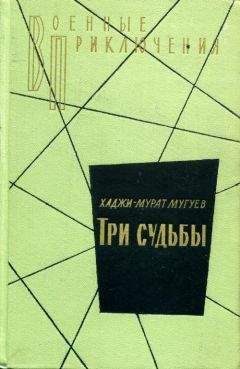Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа.
Когда отряд, перейдя назад вброд перейденную утром речку, растянулся по кукурузным полям и лугам, песенники по ротам выступили вперед, и раздались песни. Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие за сотню верст, казались совсем близкими и что, когда песенники замолкали, слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором зачиналась и останавливалась песня. Песня, которую пели в пятой роте Бутлера, была сочинена юнкером во славу полка и пелась на плясовой мотив с припевом: «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!»
Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником, майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Петербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь в гвардии, а проигрывать уже нечего было. Теперь все это было кончено. Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он забыл теперь и про свое разорение и свои неоплатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — все это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе; что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкомета и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов-кавказцев.
«То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!» — пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награды, и уважение и здешних товарищей, и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче — у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и темно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться.
— Так вот как-с, батюшка, — говорил майор в промежутке песни. — Не так-с, как у вас в Питере: равненье направо, равненье налево. А вот потрудились — и домой. Машурка нам теперь пирог подаст, щи хорошие. Жизнь! Так ли? Ну-ка, «Как вознялась заря», — скомандовал он свою любимую песню.
Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая белокурая, вся в веснушках, тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним, как нянька, а это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания.
Когда пришли в крепость, все было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна накормила его и Бутлера и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытным, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошел к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошел в свою комнатку, и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания.
Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.
Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.
Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.
Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.
Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.
На третий день после набега Бутлер вышел уже не рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на видневшуюся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками.
Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он, и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое, радовался и воспоминанию о том, как вчера, по возвращении их из похода, Маша, или Марья Дмитриевна, сожительница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми, но в особенности, как ему казалось, была к нему ласкова. Марья Дмитриевна, с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера, как сильного, молодого холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марьей Дмитриевной самого простого, почтительного обращения, и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом.
Мысли его развлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге, точно скакало несколько человек. Он поднял голову и увидал в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека: один — в белой черкеске и высокой папахе с чалмой, другой — офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с чалмой был рыже-игреневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными глазами; под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к Бутлеру:
— Это воинский начальник дом? — спросил он, выдавая и несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение и указывая плетью на дом Ивана Матвеевича.
— Этот самый, — сказал Бутлер.
— А это кто же? — спросил Бутлер, ближе подходя к офицеру и указывая глазами на человека в чалме.
— Хаджи-Мурат это. Сюда ехал, тут гостить будет у воинский начальник, — сказал офицер.