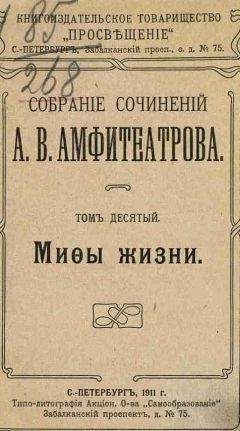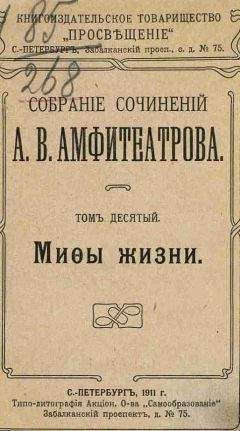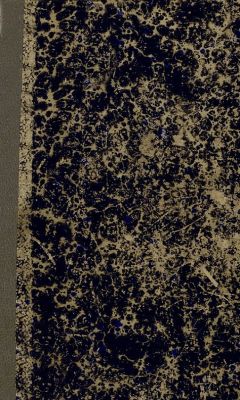Вонъ и сейчасъ на столѣ валяется La Bas. Но оккультизмъ красивъ, огроменъ, величавъ. Тамъ — Саулъ, вопрошающій Аэндорскую волшебницу, тамъ — боги, выходящіе изъ земли. Манфредъ заклинаетъ Астарту; Гамлетъ слушаетъ тайны мертваго отца; Фаустъ спускается къ «матерямъ». Все эффектныя позы, величавыя декораціи, значительныя слова, хламиды, саваны. Ну, положимъ, я не Саулъ, не Манфредъ, не Фаустъ, a только скромный и благополучный управляющій торговою конторой. Положимъ, что и чертовщина имѣетъ свой табель о рангахъ, и мнѣ досталось привидѣніе — по чину: изъ простенькихъ, поплоше. Но чѣмъ же я хуже, напримѣръ, какого-нибудь Аратова изъ «Клары Миличъ?» A сколько ему досталось поэзіи! «Розы… розы… розы…» — звуковой вихрь, отъ котораго духъ захватываетъ, слезы просятся на глаза. Но, чтобы привидѣніе пришло запросто въ гости и попросило чашку чаю… и, вонъ, лежитъ недоѣденный кусокъ хлѣба, со слѣдами зубовъ…
Это что-то ужъ черезчуръ по фамильному! Даже смѣшно… Только какъ бы мнѣ отъ этого «смѣшного» не сойти съ ума!..
Свѣчи мигаютъ желтымъ пламенемъ; день. Пришелъ Сергѣй; видитъ, что я не ложился, однако, ни слова. И я молчу.
Напившись чаю, я отправился въ лѣчебницу, гдѣ содержался Петровъ. Это оказалось недалеко, на Дѣвичьемъ полѣ, въ какихъ нибудь пяти-шести минутахъ ходьбы. Хозяинъ лѣчебницы — спокойный, рыжій чухонецъ, съ блѣднымъ лицомъ, которое узкая длинная борода такъ вытягивала, что при первомъ взглядѣ на психіатра невольно являлась мысль:
— Этакая лошадь!
Очень удивился, узнавъ мое имя.
— Представьте, какъ вы кстати! Петровъ уже давно твердитъ намъ вашу фамилію и ждетъ, что вы придете.
— Слѣдовательно, вы позволите мнѣ повидать его наединѣ? — спросилъ я, крайне непріятно изумленный этимъ сообщеніемъ.
— Сколько угодно. Онъ изъ меланхоликовъ; смирный. Только врядъ-ли вы разговоритесь съ нимъ.
— Онъ такъ плохъ?
— Безнадеженъ. У него прогрессивный параличъ. Сейчасъ онъ въ періодѣ «маніи преслѣдованія» и всякую рѣчь сворачиваетъ на свои навязчивыя идеи. Путаница, въ которой, какъ сказалъ бы Полоній, есть однако же что-то систематическое.
Камера Петрова, высокая, узкая и длинная, съ стѣнами, крашеными въ голубой цвѣтъ надъ коричневой панелью, была — какъ рама къ огромному, почти во всю вышину комнаты отъ пола до потолка, окну; на подоконникъ были вдвинуты старинныя кресла-розвальни, a въ креслахъ лежалъ неподвижный узелъ коричневаго тряпья. Этотъ узелъ былъ Петровъ. Я приблизился къ нему, превозмогая трусливое замираніе сердца. Онъ медленно повернулъ ко мнѣ желтое лицо — точно слѣпленное изъ цѣлой системы отечныхъ мѣшковъ: подъ глазами на скулахъ, на вискахъ и выпуклостяхъ лба — всюду обрюзглости, тѣмъ болѣе непріятныя на видъ, что тамъ, гдѣ мѣшковъ не было, лицо казалось очень худымъ, кожа липла къ костямъ.
Петровъ бросилъ на меня взглядъ — и безсмысленный, и острый — и проворчалъ:
— Ага, пріѣхалъ… Я зналъ… ждалъ… Садись.
Мы съ нимъ никогда не были на «ты», но теперь его «ты» не показалось мнѣ страннымъ. Какъ будто вдругъ явилось между нами нѣчто такое, послѣ чего иначе говорить стало нельзя, и «вы» звучало бы пошло и глупо. Мы внезапно сблизились, тѣснѣе чего нельзя, хотя и не дружественной близостью. Я мялся, затрудняясь начать разговоръ:
— Какъ, молъ, это ты, Василій Яковлевичъ, посылаешь ко мнѣ въ гости мертвыхъ женщинъ?
Ему, сумасшедшему, такой вопросъ, можетъ быть, и не покажется дикимъ; но вѣдь я то — въ здравомъ умѣ и твердой памяти: какое же нравственное право имѣю я предлагать такіе вопросы? Но, пока я медлилъ, онъ самъ спрашиваетъ:
— Что? была?
Совсѣмъ равнодушно. A y меня дыханіе тѣснитъ, и губы холодѣютъ.
— Вижу, бормочетъ, — вижу, что была. Ну что жъ? Съ этимъ, братецъ, мириться надо, ничего не подѣлаешь. Терпи.
— Ты о комъ говоришь то, Василій Яковлевичъ? не уразумѣю тебя никакъ…
— Какъ о комъ, братецъ? О ней… объ Аннѣ.
Я привскочилъ на стулѣ, схватилъ Петрова за руки. И все во мнѣ дрожало. Шепчу:
— Такъ это было вправду?
И онъ шепчетъ:
— A ты думалъ — нѣтъ?
— И, стало быть, дѣйствительно, есть такая мертвая Анна, которую мы съ тобой вдвоемъ видимъ и знаемъ?
— Есть, братъ.
— Кто же она? скажи мнѣ, безумный ты человѣкъ!
— Я знаю, кто она была, a кто она теперь, это, братъ, мудрѣе насъ съ тобою.
— Галлюцинація? бредъ? сонъ?
— Нѣтъ, братецъ, какой тамъ сонъ…
Но потомъ подумалъ и головою затрясъ.
— А, впрочемъ, чортъ ее знаетъ: можетъ быть, и сонъ. Только вотъ именно отъ этого сна я сначала спился, a теперь собрался умирать. И притомъ, какъ же это? — онъ ухмыльнулся, — я сижу въ сумасшедшемъ домѣ, ты обрѣтаешься на свободѣ и въ своемъ разумѣ, a сны y насъ одинаковые.
— Ты мнѣ ее послалъ? — горячо упрекнулъ я.
Онъ прищурился какъ-то и хитро, и глупо.
— Я послалъ.
— Зачѣмъ?
— Затѣмъ, что она меня съѣла, a еще голодна, — пускай другихъ ѣсть.
— Ѣстъ?!
— Ну, да: жизнь ѣстъ. Чувства гасить, сердце высушиваетъ, мозги помрачаетъ, вытягиваетъ кровь изъ жилъ. Когда я умру, вели меня анатомировать. Увидишь, что y меня, вмѣсто крови, одна вода и бѣлые шарики… какъ бишь ихъ тамъ?.. Хоть подъ микроскопъ! Ха-ха-ха! И съ тобой тоже будетъ, другъ Алексѣй Леонидовичъ, и съ тобой! Она, братъ, молода: жить хочетъ, любить. Ей нужна жизнь многихъ, многихъ, многихъ…
И расхохотался такъ, что запрыгали всѣ комки и шишки его обезображеннаго лица.
— Ты смѣешься надо мною. Какъ: «хочетъ жить и любить»? Она мертвая…
— Мертвая, a ходитъ. Что она разбила себѣ пулей високъ, да закопали ее въ яму, да въ ямѣ она сгнила, такъ и нѣтъ ея? Анъ вотъ и врешь: есть! На милліарды частицъ распалась и, какъ распалась, тутъ то и ожила. Они, братъ, всѣ живутъ, мертвые то. Мы съ тобой говоримъ, a между нами вонъ въ этомъ лучѣ колеблется, быть можетъ, цѣлый вымершій народъ. Изъ каждой горсточки воздуха можно вылѣпить сотню такихъ, какъ Анна.
Онъ сжалъ кулакъ и, медленно разжавъ его, отряхнулъ пальцы. Я съ содраганіемъ послѣдилъ его жестъ. Сумасшедшая болтовня Петрова начинала меня подавлять.
— Ты думаешь, воздухъ пустой? бормоталъ онъ, — нѣтъ, братъ, онъ лѣпкій, онъ живой; въ немъ матерія блуждаетъ… понимаешь? послушная матерія, которую великая творческая сила облекаетъ въ формы, какія захочетъ…
— Господи! Василій Яковлевичъ! — взмолился я, — не своди ты меня съ ума: не понимаю я…
Но онъ продолжалъ бормотать:
— Дифтериты, холеры, тифы… Это вѣдь они, мертвые, входятъ въ живыхъ и уводятъ ихъ за собою. Имъ нужны жизни чужія въ отплату за свою жизнь. Ха-ха-ха! въ бациллу, чай, вѣришь, a — что мертвые живутъ и мстятъ, не вѣришь. Вотъ я бросилъ карандашъ. Онъ упалъ на полъ. Почему?
— Силою земного притяженія?
— A видишь ты эту силу?
— Разумѣется, не вижу
— Вотъ и знай, что самое сильное на свѣтѣ — это невидимое. И, если оно вооружилось противъ тебя, его не своротишь! Не борись, a покорно погибай.
— Но вѣдь я видѣлъ Анну, — возразилъ я съ тоскою, — я обнималъ ее, цѣловалъ…
Петровъ нахмурился.
— Знаю все… испытано… Она сжигаетъ мозгъ. Другимъ дифтериты, тифы, холера, a тебѣ и мнѣ, - онъ ткнулъ пальцемъ, — намъ безуміе.
— Да за что же? за что? — вскричалъ я въ бѣшенствѣ.
Онъ нахмурился еще больше.
— О себѣ то я знаю, за что. Она, братъ, съ меня кровь свою взыскиваетъ. Пятна то тамъ, въ квартирѣ, закрашены или нѣтъ?
— Не знаю… она тоже спрашивала о какихъ-то пятнахъ.
— Вотъ, вотъ… Это — когда я сказалъ ей, что хочу жениться, a она — какъ хочетъ; либо пусть на родину ѣдетъ, либо я здѣсь выдамъ ее замужъ за хорошаго человѣка… A потомъ прихожу изъ суда, и она лежитъ, и полъ черепа нѣтъ… И мой револьверъ… A подоконникъ, полъ — красные: кровь и мозгъ…
Мы помолчали.
— Хорошо. Она тебя любила, ты ее бросилъ, она тебѣ мститъ, — это я понимаю. При чемъ же здѣсь я то, посторонній человѣкъ?
— A къ тебѣ, братъ, я ее послалъ. Я давно ее молилъ, чтобы она перестала меня истязать. Что, молъ, тебѣ во мнѣ? Ты меня всего изсушила. Я выѣденное яйцо, скорлупа безъ орѣха. Дай мнѣ хоть умереть спокойно, уйди! Она говоритъ: уйду, но дай мнѣ взамѣнъ себя другого. Сказываю тебѣ: молода, не дожила свое и не долюбила. Я и послалъ къ тебѣ.
— Да почему же именно ко мнѣ, a не къ Петру, Сидору, Антону? какъ ты вспомнилъ обо мнѣ? откуда ты узналъ, что я живу на твоей квартирѣ? Вѣдь мы съ тобой почти чужіе люди, встрѣчались разъ-два, много три въ годъ… Почему?!
Петровъ безсмысленно качалъ головою и бормоталъ:
— A я, брать и самъ не знаю почему…
Онъ поднялъ на меня глаза и засмѣялся.
— Алексѣй Леонидовичъ Дебрянскій, Плющиха, домъ Арефьева, квартира № 20! Квартира № 20, домъ Арефьева, Плющиха, Алексѣй Леонидовичъ Дебрянскій! Дебрянскій! Дебрянскій! — зачастилъ онъ громко и быстро.