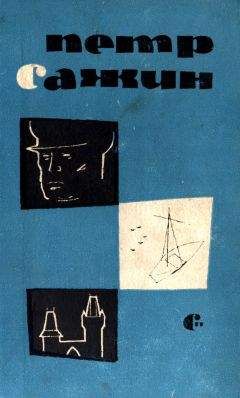Двери у всех корпусов открыты настежь. Я вхожу в одну из дверей. Небольшой коридор. Направо и налево двери, ведущие в общие камеры. Над дверями черные дощечки с белыми надписями: «Казарма № такой-то. Кубического содержания воздуха столько-то. Помещается каторжных столько-то». Прямо в тупике коридора тоже дверь, ведущая в небольшую каморку: здесь два политических, в расстегнутых жилетках и в чирках на босую ногу, торопливо мнут перину, набитую соломой; на подоконнике книжка и кусок черного хлеба. Сопровождающий меня начальник округа* объясняет мне, что этим двум арестантам было разрешено жить вне тюрьмы, но они, не желая отличаться от других каторжных, не воспользовались этим разрешением.
— Смирно! Встать! — раздается крик надзирателя.
Входим в камеру. Помещение на вид просторное, вместимостью около 200 куб. сажен. Много света, окна открыты. Стены некрашеные, занозистые, с паклею между бревен, темные; белы одни только голландские печи. Пол деревянный, некрашеный, совершенно сухой. Вдоль всей камеры по середине ее тянется одна сплошная пара, со скатом на обе стороны, так что каторжные спят в два ряда, причем головы одного ряда обращены к головам другого. Места для каторжных не нумерованы, ничем не отделены одно от другого, и потому на нарах можно поместить 70 человек и 170. Постелей совсем нет. Спят на жестком или подстилают под себя старые драные мешки, свою одежду и всякое гнилье, чрезвычайно непривлекательное на вид. На нарах лежат шапки, обувь, кусочки хлеба, пустые бутылки из-под молока, заткнутые бумажкой или тряпочкой, сапожные колодки; под нарами сундучки, грязные мешки, узлы, инструменты и разная ветошь. Около нар прогуливается сытая кошка. На стенах одежда, котелки, инструменты, на полках чайники, хлеб, ящички с чем-то.
На Сахалине свободные при входе в казармы не снимают шапок. Эта вежливость обязательна только для ссыльных. Мы в шапках ходим около нар, а арестанты стоят руки по швам и молча глядят на нас. Мы тоже молчим и глядим на них, и похоже на то, как будто мы пришли покупать их. Мы идем дальше, в другие камеры, и здесь та же ужасная нищета, которой так же трудно спрятаться под лохмотьями, как мухе под увеличительным стеклом, та же сарайная жизнь, в полном смысле нигилистическая, отрицающая собственность, одиночество, удобства, покойный сон.
Арестанты, живущие в Александровской тюрьме, пользуются относительною свободой; они не носят кандалов, могут выходить из тюрьмы в продолжение дня куда угодно, без конвоя, не соблюдают однообразия в одежде, а носят что придется, судя по погоде и работе. Подследственные, недавно возвращенные с бегов и временно арестованные по какому-либо случаю, сидят под замком в особом корпусе, который называется «кандальной». Самая употребительная угроза на Сахалине такая: «Я посажу тебя в кандальную». Вход в это страшное место стерегут надзиратели, и один из них рапортует нам, что в кандальной всё обстоит благополучно.
Гремит висячий замок, громадный, неуклюжий, точно купленный у антиквария, и мы входим в небольшую камеру, где на этот раз помещается человек 20, недавно возвращенных с бегов. Оборванные, немытые, в кандалах, в безобразной обуви, перепутанной тряпками и веревками; одна половина головы разлохмачена, другая, бритая, уже начинает зарастать. Все они отощали и словно облезли, но глядят бодро. Постелей нет, спят на голых нарах. В углу стоит «парашка»; каждый может совершать свои естественные надобности не иначе, как в присутствии 20 свидетелей. Один просит, чтобы его отпустили, и клянется, что уж больше не будет бегать; другой просит, чтобы сняли с него кандалы; третий жалуется, что ему дают мало хлеба.
Есть камеры, где сидят по двое и по трое, есть одиночные. Тут встречается немало интересных людей.
Из сидящих в одиночных камерах особенно обращает на себя внимание известная Софья Блювштейн — Золотая Ручка*, осужденная за побег из Сибири в каторжные работы на три года. Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. На руках у нее кандалы; на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и теплою одеждой и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она всё время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею. На Сахалине она в первое время, как и все присылаемые сюда женщины, жила вне тюрьмы, на вольной квартире; она пробовала бежать и нарядилась для этого солдатом, но была задержана. Пока она находилась на воле, в Александровском посту было совершено несколько преступлений: убили лавочника Никитина*, украли у поселенца еврея Юровского 56 тысяч*. Во всех этих преступлениях Золотая Ручка подозревается и обвиняется как прямая участница или пособница. Местная следственная власть запутала ее и самоё себя такою густою проволокой всяких несообразностей и ошибок, что из дела ее решительно ничего нельзя понять. Как бы то ни было, 56 тысяч еще не найдены и служат пока сюжетом для самых разнообразных фантастических рассказов.
О кухне, где при мне готовился обед для 900 человек, о провизии и о том, как едят арестанты, я буду говорить в особой главе. Теперь же скажу несколько слов об отхожем месте. Как известно, это удобство у громадного большинства русских людей находится в полном презрении. В деревнях отхожих мест совсем нет. В монастырях, на ярмарках, в постоялых дворах и на всякого рода промыслах, где еще не установлен санитарный надзор, они отвратительны в высшей степени. Презрение к отхожему месту русский человек приносит с собой и в Сибирь. Из истории каторги видно, что отхожие места всюду в тюрьмах служили источником удушливого смрада и заразы и что население тюрем и администрация легко мирились с этим. В 1872 г. на Каре, как писал г. Власов в своем отчете*, при одной из казарм совсем не было отхожего места, и преступники выводились для естественной надобности на площадь, и это делалось не по желанию каждого из них, а в то время, когда собиралось несколько человек. И таких примеров я мог бы привести сотню. В Александровской тюрьме отхожее место, обыкновенная выгребная яма, помещается в тюремном дворе в отдельной пристройке между казармами. Видно, что при устройстве его прежде всего старались, чтоб оно обошлось возможно дешевле, но все-таки сравнительно с прошлым замечается значительный прогресс. По крайней мере оно не возбуждает отвращения. Помещение холодное и вентилируется деревянными трубами. Стойчаки устроены вдоль стен; на них нельзя стоять, а можно только сидеть, и это главным образом спасает здесь отхожее место от грязи и сырости. Дурной запах есть, но незначительный, маскируемый обычными снадобьями, вроде дегтя и карболки. Отперто отхожее место не только днем, но и ночью, и эта простая мера делает ненужными параши; последние ставятся теперь только в кандальной.
Около тюрьмы есть колодец, и по нему можно судить о высоте почвенной воды. Вследствие особого строения здешней почвы почвенная вода даже на кладбище, которое расположено на горе у моря, стоит так высоко, что я в сухую погоду видел могилы, наполовину заполненные водою. Почва около тюрьмы и во всем посту дренирована канавами, но недостаточно глубокими, и от сырости тюрьма совсем не обеспечена.
В хорошую теплую погоду, которая здесь бывает не часто, тюрьма вентилируется превосходно: окна и двери открываются настежь, и арестанты большую часть дня проводят на дворе или далеко вне тюрьмы. Зимою же и в дурную погоду, то есть в среднем почти 10 месяцев в году, приходится довольствоваться только форточками и печами. Лиственничный и еловый лес, из которого сделаны тюрьма и ее фундамент, представляет хорошую естественную вентиляцию, но ненадежную; вследствие большой влажности сахалинского воздуха и изобилия дождей, а также испарений, идущих изнутри, в порах дерева скопляется вода, которая зимою замерзает. Тюрьма вентилируется слабо, а между тем на каждого ее обитателя приходится не много воздуха. У меня в дневнике записано: «Казарма № 9. Кубического содержания воздуха 187 саж. Помещается каторжных 65». Это в летнее время, когда ночует в тюрьме только половина всех каторжных. А вот цифры из медицинского отчета за 1888 г.: «Кубическая вместимость арестантских помещений в Александровской тюрьме 970 саж.; числилось арестантов: наибольшее 1 950, наименьшее 1 623, среднее годовое 1 785; помещалось на ночлег 740; приходилось на одного человека воздуха 1, 31 саж.». Наименьшее скопление каторжных в тюрьме бывает в летние месяцы, когда они командируются в округ на дорожные и полевые работы, и наибольшее — осенью, когда они возвращаются с работ и «Доброволец» привозит новую партию в 400–500 человек, которые живут в Александровской тюрьме впредь до распределения их по остальным тюрьмам. Значит, меньше всего воздуха приходится на каждого арестанта именно в то время, когда вентиляция бывает наименее действительна.