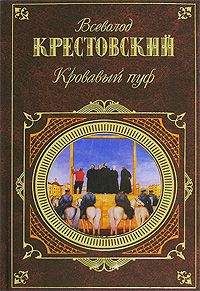Подписи не было.
По прочтении письма и гость и хозяин сосредоточенно погрузились в некоторую задумчивость.
Вдруг за печкой сверчок цвирикнул.
Пшецыньский в тот же миг насторожил уши и, сделав ксендзу рукою жест, который в точности выражал предупредительное междометие "тсс!" — прислушиваясь осторожно и чутко, закусил себе нижнюю губу, внимательно осмотрелся вокруг и особенно покосился на окна и двери. Но сверчок цвирикнул вторично — и полковник успокоился.
— Через кого получено? — поднял наконец он голову, с облегчительным вздохом, когда Кунцевич подлил из бутылки в обе стопы.
— Конечно, частным путем. Новый эмиссар приехал перед вашим отъездом в Снежки, — таинственно сообщил хозяин, — он и привез мне это.
— Кто такой? — столь же таинственно полюбопытствовал Пшецыньский.
— Некто Францишек Пожондовский, молодой, но надежный человек; из казанского университета… был на Литве, оттуда прямо и приехал… послан к нам, в нашу сторону.
— По-русски хорошо говорит?
— Як сам москаль! Человек годящийся.
— Ну, то добрже!.. А еще не начал?
— Юж! — махнув рукою, тихо засмеялся ксендз-пробощ. — И теперь вот, я думаю, где-нибудь по кабакам шатается! На другой же день, как приехал, так и отправился в веси. Лондонских прокламаций понавез с собою — ловкий человек, ловкий!
— А ведь я к пану за советом! — после небольшого молчания начал Пшецыньский, закурив новую сигару. — Ксендз каноник знает, что сегодня у Покрова служилась панихида по убитым в Снежках?
Кунцевич в ответ кивнул головою, как о деле досконально ему известном.
— Я посылал туда адъютанта, да и кроме того мне донесли о всех почти, кто там находился, — продолжал Пшецыньский. — Только не знаю, как лучше сделать теперь: донести ли сейчас или как-нибудь помягче стушевать это происшествие?
Ксендз отхлебнул из стопки и, многозначительно уставив глаза в землю, с раздумчивым видом пошевелил и подмокал губами.
— Мм… Донести! Я так полагаю, что непременно надо донести, и чем скорее, тем лучше, — порешил он. — Не забывай, коханы пршияцелю, — назидательно промолвил он, — что мы люди подлегальные, а потому нам всегда следует прятаться под легальность.
— Но ведь потом, вероятно, арестовать придется? — возразил Болеслав Казимирович.
— Ну, и цо ж! Ну, и арестовать!.. Надо только донести с разбором и арестовать с разбором. Людей одиноких, безродных, из тех, которые покрасней да позадорливей, мы не тронем, — развивал ксендз свою теорию, — те нам и самим еще впредь пригодятся. А тех, у которых есть родня, знакомства, семейства и, главное, которые менее энергичны в деле, — тех позабираем и отправим до казематов. Таким способом мы двух зайцев убьем! Хе, хе, хе! — тихо посмеивался избоченившийся ксендз-пробощ, ласково хлопнув полковника по колену и плутовато подмигивая ему глазом. — Все-таки двух зайцев разом! — продолжал он. — Все, что пригодно, то останется, а о тех, которые будут забраны, и в семьях, и в обществе, пойдут толки, сожаления, сетования да ропот… Недовольство станет возростаться, все-таки лишняя капля горечи в чашу, а Панургово стадо не ослабеет, если несколько баранов будут зарезаны!.. Надо только, чтобы бараны были так себе, не важные, из не особенно тонкорунных. Это нам, душечко, все на добро да на пользу! Не надо нигде упускать своих нитей!
Полковник благодарно обнял и звучным поцелуем от души облобызал своего глубокотонкого и политичноумного советника. Недаром оба они называли себя цеглой велькего будованя.[42]
Приятели роспили заветную бутылку; ксендз вдосталь полакомился вареньем, и Пшецыньский стал прощаться. Опять они взялись под локти и взаимно облобызались дважды.
— Ах, да!.. Чуть было не забыл! — остановил Кунцевич своего гостя, провожая его в прихожую. — Если пан увидит завтра утром пани Констанцию, то пусть скажет, что я заеду к ним часов около трех; надо внушить ей, пускай-ко постарается хоть слегка завербовать в стадо этого фон-Саксена… Он, слышно, податлив на женские речи… Может, даст Бог, и из этого барона выйдет славный баран! — с обычным своим тихим и мягким смехом завершил Кунцевич, в последний раз откланиваясь Пшецыньскому.
Они расстались, но оба в тот вечер не закончили еще свою деятельность на приятельском разговоре. И тот и другой долго еще сидели за рабочими столами в своих кабинетах. Один писал донесение по своему особому начальству, другой — к превелебному пану бискупу с забранего края.
Дня два спустя после панихиды в нумер к Хвалынцеву заглянул Устинов.
— А я к тебе на минутку, — начал он, снимая калоши и разматывая гарусный шарф. — С тобой желает познакомиться одна милая девица… Лубянская. Может, ты заметил? стриженая; стояла около этого Полоярова, что в кумаче-то ходит.
— Что же этой милой девице нужно от меня? — лениво проговорил Хвалынцев, лениво подымаясь с дивана.
— Ну, как "что?" Ты ведь, в некотором роде, интересная личность, новый человек здесь, да еще и в Снежках был… Нет, она в самом деле добрая! Если хочешь, отправимся нынче вечером, — я забегу за тобою.
— Да ведь скука, поди-ко? — поморщился было Хвалынцев.
— Нет, ничего! Увидишь разных народов… Между прочим, Татьяна Николаевна Стрешнева будет, — как бы в скобках заметил учитель.
— Ах, это — та! — воскликнул студент, не сумев воздержаться от хорошей, открытой улыбки.
— Она самая.
— Ну, пожалуй, поедем!.. Я не прочь.
- Â кстати, слышал ты самую новую новость? — серьезно; спросил Устинов, собравшись уже уходить от приятеля. — Говорят, что нынче ночью арестовали нескольких человек из бывших на панихиде.
Хвалынцева слегка покоробило, словно бы и за самим собою почувствовал он возможность быть арестованным.
— Что ж, мудреного ничего нет, — пожал он плечами.
— Штука скверная… и довольно грустная. Вечером, вероятно, услышим кой-какие подробности, — заключил Устинов, подавая руку на прощанье.
* * *
На весьма скромной и порядком-таки пустынной улице, называемой Перекопкой, стоял довольно ветхий деревянный домик о пяти окнах. Наворотная жестянка гласила, что дом сей принадлежит отставному майору Петру Петровичу Лубянскому. В калитку этого самого дома, часов около восьми вечера, прошли двое наших приятелей.
Почти в самых дверях из прихожей в небольшое зальце Хвалынцева встретила миловидная брюнеточка, в простом люстриновом платье темного цвета, с пухленьким личиком в том характере, который наиболее присущ брюнеткам чисто русской породы.
— Хвалынцев? — вскинула она на него улыбающиеся глазки, не прибавя к его имени обычного прилагательного "господин".
— Хвалынцев, — подтвердил ей студент с поклоном.
— Ну, здравствуйте! Я хотела познакомиться с вами. Пожалуйста, без церемоний, — можете делать что захочется: хотите — садитесь, хотите — курите, молчите или разговаривайте — как найдете для себя удобнее, хотя мне собственно хотелось бы более, чтобы вы разговаривали; но… это, впрочем, для вас нисколько не обязательно.
Прощебетав все это довольно быстро, девушка отошла к большому креслу пред рабочим столиком и уселась за какое-то шитье.
— Папахен, — закричала она в другую комнату, — ступай сюда, познакомься! К нам новый гость пришел!
Из смежной комнаты послышалось шлепанье туфлей — и в дверях показался, в чистом стеганом халатике, сивенький старичок с очень добродушным лицом, которое носило на себе почтенную печать многих походов и долгой боевой жизни.
— Очень приятно!.. очень приятно! — приветливо заговорил он, с видимым радушием сжимая и тряся обеими руками руку Хвалынцева. — Извините старика… что я к вам эдак… по-домашнему.
— Ну, папахен! ты это оставь! Хвалынцев, конечно, знает пословицу, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Студент немножко сконфузился, почувствовав при этих словах маленькую неловкость: показалось оно ему больно уж оригинальным; но он тотчас же и притом очень поспешно постарался сам себя успокоить тем, что это, мол, и лучше, — по крайней мере без всяких церемоний, и что оно по-настоящему так и следует.
— Я гостей своих не рекомендую друг другу, — обратилась Лубянская к Хвалынцеву из-за своей работы, — это одне только скучные официальности, а коли угодно, каждый может сам знакомиться.
Студент молча поклонился и, снова ощутив некоторую неловкость, рассеянно перевел глаза на обстановку комнаты.
Небольшое зальце было убрано весьма просто, кое-какая сборная мебель, кисейные занавески, старые клавикорды, а по стенам портреты Ермолова, Паскевича, Воронцова и две литографии, изображающие подвиги простых русских солдатиков: умирающего рядового, который передает товарищу спасенное им полковое знамя, да другого, такого же точно солдата, с дымящимся фитилем пред пороховым погребом, в то время, когда малочисленные защитники укрепления почти все уже перебиты да перерезаны огромными полчищами горцев. В этих портретах, да в этих литографиях, быть может, заключались лучшие, самые заветные и самые теплые воспоминания старого майора.