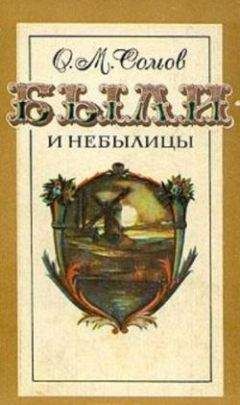— Пора! — раздался в ушах толстого пана грубый голос Несувида. — Пора! там ждут. И гайдамаки снова подняли Просечинского и перенесли его на середину круга.
Бледен как полотно явился Просечинский перед самовольным своим обвинителем и судьею. Мутным взором обвел он место истязания. Прямо против него, на сундуках и подушках, покрытых дорогим его персидским ковром, сидел Гаркуша с строгим, но спокойным видом и допрашивал людей Просечинского, которые стояли на коленях и робко отвечали на вопросы. Но какою горячею кровью облилось отцовское сердце пана Просечинского, когда, с тяжким предчувствием отведя глаза в сторону, увидел он сыновей своих! Они лежали недвижно на войлоке, и на обоих накинуты были красные попоны, укрывавшие их с головы до ног. Несчастный отец не взвидел света: в ушах его раздался как будто шум воды, внезапно прихлынувшей, и он уже не слышал более ни слов Гаркуши, ни ответов своей челяди.
Когда толстый пан опомнился, то почувствовал, что его обливали холодною водою. Несколько гайдамаков стояли вокруг него, держа наготове орудия тяжкого и постыдного наказания, которое присудил ему неумолимый атаман. Гаркуша встал с своего места, подошел к нему и начал говорить.
— Я допрашивал твоих людей, пан Просечинский: они так запуганы тобою, что не смели сделать никаких показаний, и это самое уже служит доказательством жестоких твоих с ними поступков. Послушайся же моих доброжелательных увещаний: я делаю их от души, из прямой любви к ближнему! Люби, пан Просечинский, своих людей: они тебе служат; они потом и кровавыми трудами добывают то, что тебе доставляет роскошь и негу. Сам бог заповедал панам миловать служителей как родных детей своих, не мучить их без пощады за малейшую вину, не томить их неумеренными трудами и голодом, не отнимать у них последних, потовых крох. Посмотри, с каким состраданием они смотрят теперь на тебя, хотя у многих из них не зажили еще на теле раны, которые они от тебя же получили. Что ж, если б ты был добрым паном, другом и благодетелем твоих подданцев? Они любили бы тебя, как отца…
Гаркуша остановился, растрогавшись сам от своих слов — искренне или притворно, того никто не мог прочесть на лице и в душе его. В характере атамана была такая чудная смесь лицемерства с добрыми природными наклонностями, холодной, расчетливой мстительности с наружным правосудием и благонамеренностию, что самые приближенные его, Несувид и Закрутич, обманывались в истинных или ложных его ощущениях и не могли разгадать того, что в нем происходило. Бывали минуты, в которые можно было подумать, что он сам себя обманывал. Так, может статься, было и на этот раз. Постояв несколько минут в молчании, посмотрев медленным, пытливым взором на лица людей Просечинского и своих гайдамаков, как будто бы с желанием доведаться, верят ли они проповедническим его чувствованиям и что думают о цели его красноречия, — он продолжал тихо и с расстановкой:
— Чтобы слова мои, Спирид Самойлович, были для тебя внятнее, чтоб они дошли до твоей души и сильнее врезались в твоей памяти, то потерпи немного… Я сам из уважения к твоей особе стану считать… Эй, вольные казаки мои, принимайтесь!..
В эту минуту шут Рябко вырвался из рук Паливоды, бросился на колени перед Гаркушей и кричал сквозь слезы:
— Пан атаман! возьми мою шкуру, выкрой, пожалуй, из нее чоботы для любого из твоих вольных казаков, только оставь в целости моего пана. Он человек старый и мягкотелый; он не выдержит твоего отеческого исправления. А у Рябка кожа загрубела и загорела; смотри: она так тверда, что хоть на барабан натяни — не порвется; и Рябко готов ее сменить на новую, лишь бы пана своего вызволить…
Цыган схватил шута за полы его жупана и тащил его прочь, между тем как Гаркуша смотрел на него с хладнокровною, бесстрастною улыбкой. Видя, что на слова его не обращали внимания и что пану его не избежать пытки, Рябко вдруг вскочил, обоими локтями толкнул цыгана так сильно, что тот не удержался на ногах и принужден был выпустить полы жупана. Не теряя времени, Рябко кинулся к толстому пану, прикрыл его своим телом и как клещ уцепился за него руками и ногами.
— Нате же, режьте и ешьте меня, катовы дети! — с ожесточением кричал он гайдамакам. — Хоть искрошите меня в мелкие куски — я не сойду отсюда и не отстану от моего пан-отца: умру сам, а пока жив, не дам его тела на поругание!
Гайдамаки переглядывались между собою, как бы спрашивая друг друга глазами, что из этого будет, и в нетерпеливой досаде кусали себе губы. Несувид хмурил брови и клялся себе под нос, что сквозь ребра шута дознается правды от толстого пана; никто из них не смел, однако ж, начать что-либо прежде, нежели атаман даст приказание. Между тем шут подразнивал гайдамаков и накликал на себя их мщение ругательствами. Гаркуша, казалось, тешился и задорною бранью шута, и недоумением и досадою своих удальцов. Он стоял сложив руки и посматривал на все происходившее вокруг него с таким видом, с каким взрослые люди смотрят на ребят, дразнящих привязанную кошку, которая фыркает, щетинится и мечется то на того, то на другого, со всем напряжением бессильной злости.
Наконец, наскуча сим зрелищем, Гаркуша подошел к шуту, толкнул его ногою и сказал: «Вставай, приятель! вижу твое усердие и храбрость и хвалю тебя за это: ты отчаянно защищал своего пана языком и спиною. Теперь я сам хочу доказать тебе мою благодарность за добрый твой совет и подаяние нищему: обещаю тебе, что пана твоего не тронут и пальцем…»
— Вправду ли, дядько?
— Разве ты слыхал от кого, что Гаркуша не сдержал когда-нибудь своего обещания? Только и ты обещай мне стоять смирно под надзором, ни во что больше не мешаться и не давать воли ни рукам, ни языку.
— О, пожалуй! И ты увидишь, что Рябко не хуже Гаркуши умеет держать свое слово. Бери меня, черномазый, — продолжал он, встав и оборотясь к Паливоде, — только, сделай дружбу, полегче держи меня за плеча. Ты и без того уже измял их так, что я целую неделю не смогу взяться за бандуру.
Гайдамаки пристально смотрели в лицо Гаркуши и молча ждали его повелений. Он провел указательным пальцем черту по воздуху в ту сторону, где лежали панычи, — и толстый пан мигом был туда перенесен. Просечинский сел в положении человека, который, только что быв вытащен из воды, не может еще опомниться и собрать своих мыслей. С рассеянным видом озирался он вокруг себя, пока взор его снова остановился на сыновьях его, которые лежали затаив дух и не смея поворохнуться. Тут пробудилось участие в сердце отца, с тоскливым умилением глядел он на своих детей, но не решался заговорить с ними, боясь, чтоб ужасная истина не разрушила последней, шаткой его надежды.
Гаркуша между тем сел на прежнее свое место, и гайдамаки снова обступили его с видом ожидания. «По оброк!» — промолвил он, и гайдамаки, громко и радостно вскрикнув: «По оброк!», рассыпались в разные стороны, кроме тех из них, которым поручено было смотреть за толстым паном, за детьми и людьми его, сторожить у палатки и пр. Часть гайдамаков бросилась к коляске, фурам и возам Просечинского, несколько человек расстилали перед Гаркушей ковры, попоны и все, что могли отыскать в обозе толстого пана; а выкрест Лемет, подойдя к Просечинскому, с притворною, лукавою учтивостью и старинными своими жидовскими оговорками и божбами, просил его ссудить на время атамана ключами от походных своих сундуков и баулов и, не дожидаясь ответа, начал шарить у него в карманах, отыскал большую связку ключей и принес ее к Гаркуше.
Хладнокровный сторонний зритель подивился бы ловкости, сметливости и проворству, с какими гайдамаки обыскивали и опоражнивали захваченный ими обоз. Из читателей наших легко могут об этом составить себе понятие те, которым случалось быть в руках французских таможенных приставов и осмотрщиков, особливо на заставе при переезде через Рейн, у Страсбурга. В минуту все было обыскано, вытаскано и снесено в одно место, и те из сундуков и шкатулок, кои заключали в себе самые ценные вещи, с редкою догадливостью были отобраны и расставлены перед атаманом.
Прежде всего Гаркуша, расспрашивая шута и других людей Просечинского, начал отбирать вещи, принадлежавшие Торицкому и Олесе. Все это откладывалось на сторону, и Гаркуша даже не отмыкал сундуков, чемоданов и шкатулок, в которых, по показаниям людей, находилась собственность панны Елены или будущего ее мужа! Атаман гайдамаков, любивший при всяком случае с некоторым хвастовством выказывать свое бескорыстие или великодушие, отложил еще значительную долю из взятых им на свой пай дорогих вещиц и червонцев и, положив в шкатулку, замкнул и отослал с другим имуществом жениха и невесты в палатку, строго подтвердив гайдамакам, чтобы все было доставлено в целости.
Тогда начался подел. С видом знатока и любителя, Гаркуша рассматривал и оценивал все вещи высокой цены, к тяжкому прискорбию толстого пана, который печально смотрел на расхищение своего богатства. При открытии каждого сундука с серебром, каждого баула с золотыми деньгами или шкатулки с драгоценностями гайдамаки испускали неистовый, радостный вопль, как стая воронов при виде мясной добычи, и этот вопль болезненно отдавался в ушах и в сердце толстого пана. Надобно было видеть жадные, сверкающие взгляды корыстолюбивой вольницы, когда перед нею рассыпали мешки с червонцами и рублями или раскладывали большие серебряные стопы и чаши, дорогое оружие, золотые парчи, камки и бархат! Надобно было видеть горькие ужимки и тяжелые вздохи толстого пана, когда перед его глазами Гаркуша с своею шайкой распивали, похваливая, любимую его водку, сладкие его наливки и редкие заморские вина! Такое зрелище могло бы сообщить понятие о радости злых адских духов, которые, подразнивая утратою земных благ, заживо мучат бедного грешника, попавшегося к ним в когти с телом и душою.