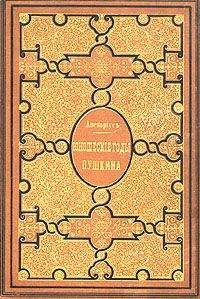"Евгений Онегин"
Одно, впрочем, из таких сборищ у Галича, особенно бурное, имело преимущественно учебный характер. Дело в том, что общий шестилетний курс лицейский разделялся на два трехгодичных — младшего и старшего возраста. Между тем 19 октября 1814 года истекло уже первое трехлетие пребывания Пушкина и его товарищей в лицее, и для перехода в старший курс им предстояло теперь сдать по всем предметам полный экзамен, который, в довершение всего, должен был происходить еще публично. Хотя для облегчения лицеистов экзамен этот был отложен до января 1815 года, тем не менее они трепетали не на шутку.
— Помилуйте, Александр Иваныч! На вас вся надежда! — пристали они к Галичу, как только собрались опять у него.
— То-то! Взялись за ум, да поздно! — подтрунил над ними молодой профессор. — О чем же вы, господа, раньше-то думали?
— Гром не грянет — мужик не перекрестится, — заметил Горчаков. — А впрочем, на Бога надейся, да сам не плошай, говорит другая пословица.
— Ну да! Тебе-то, Горчаков, хорошо толковать, — возразил Пушкин. — Тебя, да Вальховского, да, пожалуй, зубрилу Кюхельбекера хоть сейчас проэкзаменуй — не срежетесь. Зато мы, прочие, провалимся… до центра земли!
— А кто же виноват в этом, друг мой? — спросил Галич.
— Да уж, разумеется, не мы.
— Не вы? Так уж не мы ли, ваши наставники?
— А то кто же? Зачем нас порядком не приструнили?
— Так, так. С больной головы да на здоровую…
— Нет, господа, — вмешался Пущин, — виновато во всем наше беспутное междуцарствие: нет твердой руки над нами — и все вновь расползлось.
— А новый надзиратель ваш, Фролов? — спросил Галич. — Кажется, человек твердый!
— Да, как камень! Но мы все-таки, как бы то ни было, не совсем уж дети или пешки; а он как нами помыкает:
— Руки по швам! Цыц! Молчать!
— Позвольте объяснить вам, Степан Степаныч… — начнешь, бывало, только.
— Что-о-о-с? Вы еще объясняться? Молокососы!
— Извините, Степан Степаныч, молокососами нас даже профессора не называют.
— Молчать, говорят вам! Марш в карцер! Еще рассуждать вздумали!..
Рассуждать, конечно, перестанешь, но — и слушаться тоже.
— Вот это напрасно, — сказал Галич, — он, так ли, сяк ли, ваш первый начальник, потому что Гауеншильд хотя и числится за директора, но так занят своим пансионом, что ему не до вас. А что Степан Степаныч ввел у нас некоторый порядок — этого, я думаю, вы не станете отрицать. Новый эконом, Камараш, кормит вас ведь лучше Золотарева?
— Лучше. Но ведь это новая метла, Александр Иваныч…
— Все равно; на продовольствие вам пока, стало быть, жаловаться нельзя. Затем, по предложению же Фролова, у вас введено теперь фехтование, введены танцы. То и другое как упражнение в телесной ловкости вовсе не лишнее. Далее: он хлопочет уже о том, чтобы сделать для вас обязательным и верховую езду, то есть то самое, что до сих пор было только привилегией графа Броглио. Словом, он не знает покоя, стараясь сделать из лицея образцовое, по его понятиям, заведение.
— По его понятиям — да! — подхватил Пушкин. — Он, может быть, и сделал для нас то, другое, но все это не выкупает тех стеснений, которые мы от него выносим. Воспитанник закрытого учебного заведения, согласитесь, должен чувствовать там себя более или менее как дома; лицей и был для нас до сих пор как бы родным домом; но, по милости Фролова, он скоро, кажется, совсем нам опостылит.
— Эх, господа! — сказал Галич. — Немножечко обкарнали вам крылышки, чтобы далеко не залетали, так вы уж и судьбу свою клянете. Чтобы верно судить о предмете, надо сравнивать его всегда с другими однородными. Слышали вы про иезуитский коллегиум в Петербурге?
— Как не слыхать! — отвечал Пушкин. — Меня самого даже родители предполагали сперва пристроить туда; но тут как раз открылся лицей — и меня отдали сюда.
— Благодарите же Бога, что не попали к иезуитам!
— А что же? Ведь коллегиум их считается в Петербурге чуть ли не самым аристократическим заведением?
— Многие аристократы, точно, отдают туда своих детей. Но почему? Потому, что коллегиум в моде, а в моде потому, что все предметы, даже русская словесность, преподаются там по-французски; французский же язык нынче для нас дороже своего отечественного! Наконец, древние языки, а также и математика, как слышно, идут там довольно успешно. Зато родная речь и православный Закон Божий в полном загоне.
— Потому, верно, что начальство училища — католические патеры?
— Да. На устах ведь у этих господ христианское милосердие, а на деле — неумолимая строгость.
— На языке мед, а под языком лед?
— Буквально. За малейший проступок воспитанники лишаются свободы и пищи, подвергаются телесному наказанию. Но это еще не все. Они шагу ступить не могут, чтобы обо всем не узнало сейчас их начальство.
— Какими же путями?
— А во-первых, в дверях дортуаров у них, конечно, проделаны такие же решетки, как и у вас здесь, в лицее. Но, по природному благодушию русского человека, гувернеры ваши нимало не стесняют вас своим надзором. Питомцы же иезуитов ни на минуту не могут быть уверены, что из-за решетки не следит за ними зоркий глаз, чуткое ухо дежурного патера. Они не могут быть даже уверены в собственных своих товарищах: выбранные начальством из их же среды аудиторы переспрашивают уроки и непокорных выдают головою. А несколько человек из них, без ведома остальных, играют роль шпионов и доносчиков, по иезуитскому правилу: цель оправдывает средства…
— Но это Бог знает что такое! Это не жизнь, а ад! — ужасались лицеисты.
— И я чуть было не угодил туда… — проговорил, с дрожью в теле, Пушкин.
— Зато стали бы тихим, аки агнец, и мудрым, аки змий! — с горькой усмешкой заметил Галич.
— И как это еще терпят у нас подобное заведение?
— Пока терпели; но дни господ иезуитов, я слышал, уже сочтены.[18] Так вот, друзья мои, и извольте-ка сравнить положение тех воспитанников с вашим. Телесных наказаний у вас не допускается уже по самому уставу лицея. Свобода ваша ничем почти не стеснена. Вы видаетесь с вашими родными когда угодно; гуляете по парку и между публикой у музыки без опасения, что кто-нибудь вас подслушает; вы бываете даже в городе на домашних спектаклях у графа Толстого; собираетесь вот у меня для литературных бесед; наконец, можете посвящать страсти вашей к поэзии все ваше досужное время…
— И даже недосужное! — подхватил весельчак Илличевский. — Недавно, знаете, на уроке алгебры у профессора Карцова вышел презабавный анекдот. Пушкин, как обыкновенно, уселся на задней скамейке, чтобы удобнее, знаете, было писать стихи. Вдруг Яков Иваныч вызывает его к доске. Он очнулся, как со сна, идет к доске, берет мелок в руки да и стоит с разинутым ртом.
— Чего вы ждете? Пишите же! — говорит ему Яков Иваныч.
Стал он писать формулы, пишет себе да пишет, исписал всю доску. Профессор смотрит и молчит, только тихо, про себя, посмеивается.
— Что же у вас вышло? — спрашивает он наконец. — Чему равняется икс?
Пушкин сам тоже смеется.
— Нулю! — говорит он.
— Хорошо! — говорит Яков Иваныч. — У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи.
Анекдот Илличевского имел полный успех: все весело захохотали, начиная с Галича и кончая самим Пушкиным.
— Да ведь математика — Ахиллесова пята моя, — заговорил Пушкин. — Другое дело, например, не менее серьезный предмет — логика. Потому ли, что Куницын читает ее так занимательно, потому ли, что он лично так расположен ко мне, или же естественная логика дается мне легче искусственной — математической, — только к логике я готовлюсь всегда очень охотно.
— Хотя и не имеешь собственных записок! — смеясь, добавил Илличевский.
— На что мне они, коли я могу взять их всегда у любого из вас? — был легкомысленный ответ.
(Надо заметить, что в то время в лицее не было еще печатных руководств и лицеисты переписывали для себя тетради профессоров.)
— На меня, Пушкин, вам тоже, я думаю, нельзя жаловаться, чтобы я чересчур прижимал вас? — спросил Галич.
— О нет! Вы-то, Александр Иваныч, очень снисходительны…
— Так кто же чересчур взыскателен? Кайданов?
— Нет, историю я тоже люблю и, обыкновенно, знаю урок.
— Так не де Будри же? Ведь недаром товарищи вас прозвали даже Французом.
— Нет, с Давидом Иванычем мы большие приятели, — отвечал Пушкин. — Но зато с немцем Гауеншильдом воюем не на жизнь, а на смерть.
— Только-то, значит? Нравом он, пожалуй, действительно, тяжел, но у него есть и свои достоинства: он хорошо знает свой предмет, он начитан. И из-за него-то одного вы, Пушкин, готовы разлюбить наш дорогой лицей?
— Вы забываете, Александр Иваныч, нового нашего надзирателя Фролова.