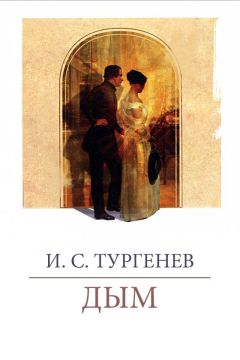– А вы охотник? – спросил Литвинов.
– Постреливаю помаленьку. Пробирался я в болото за бекасами; натолковали мне про это болото другие охотники. Гляжу, сидит на поляне перед избушкой купеческий приказчик, свежий и ядреный, как лущеный орех, сидит, ухмыляется, чему – неизвестно. И спросил я его: "Где, мол, тут болото, и водятся ли в нем бекасы?" – "Пожалуйте, пожалуйте, – запел он немедленно и с таким выражением, словно я его рублем подарил, – с нашим удовольствием – с, болото первый сорт; а что касательно до всякой дикой птицы – и боже ты мой! – в отличном изобилии имеется". Я отправился, но не только никакой дикой птицы не нашел, самое болото давно высохло. Ну скажите мне на милость, зачем врет русский человек? Политико – эконом зачем врет, и тоже о дикой птице?
Литвинов ничего не отвечал и только вздохнул сочувственно.
– А заведите речь с тем же политико-экономом, – продолжал Потугин, – о самых трудных задачах общественной науки, но только вообще, без фактов… фррррр! так птицей и взовьется, орлом. Мне раз, однако, удалось поймать такую птицу: приманку я употребил, как вы изволите увидеть, хорошую, видную. Толковали мы с одним из наших нынешних "вьюношей" о различных, как они выражаются, вопросах. Ну-с, гневался он очень, как водится; брак, между прочим, отрицал с истинно детским ожесточением. Представлял я ему такие резоны, сякие… как об стену! Вижу: подъехать ни с какой стороны невозможно. И блесни мне тут счастливая мысль! "Позвольте доложить вам, – начал я, – с "вьюношами" надо всегда говорить почтительно, – я вам, милостивый государь, удивляюсь; вы занимаетесь естественными науками – и до сих пор не обратили внимания на тот факт, что все плотоядные и хищные животные, звери, птицы, все те, кому нужно отправляться на добычу, трудиться над доставлением живой пищи и себе, и своим детям… а вы ведь человека причисляете к разряду подобных животных?" – "Конечно, причисляю, – подхватил "вьюноша", – человек вообще не что иное, как животное плотоядное". – "И хищное", – прибавил я. "И хищное", – подтвердил он. "Прекрасно сказано, – подтвердил я. – Так вот я и удивляюсь тому, как вы не заметили, что все подобные животные пребывают в единобрачии?" "Вьюноша" дрогнул. "Как так?" – "Да так же. Вспомните льва, волка, лисицу, ястреба, коршуна; да и как же им поступать иначе, соблаговолите сообразить?
И вдвоем-то детей едва выкормишь". Задумался мой "вьюноша". "Ну, говорит, в этом случае зверь человеку не указ". Тут я обозвал его идеалистом, и уж огорчился же он! Чуть не заплакал. Я должен был его успокоить и обещать ему, что не выдам его товарищам. Заслужить название идеалиста – легко ли! В том-то и штука, что нынешняя молодежь ошиблась в расчете. Она вообразила, что время прежней, темной, подземной работы прошло, что хорошо было старичкам-отцам рыться наподобие кротов, а для нас-де эта роль унизительна, мы на открытом воздухе действовать будем, мы будем действовать… Голубчики! и ваши детки еще действовать не будут, а вам не угодно ли в норку, в норку опять по следам старичков?
Наступило небольшое молчание.
– Я, сударь мой, такого мнения, – начал опять Потугин, – что мы не одним только знанием, искусством, правом обязаны цивилизации, но что самое даже чувство красоты и поэзии развивается и входит в силу под влиянием той же цивилизации и что так называемое народное, наивное, бессознательное творчество есть нелепость и чепуха. В самом Гомере уже заметны следы цивилизации утонченной и богатой; самая любовь облагораживается ею. Славянофилы охотно повесили бы меня за подобную ересь, если б они не были такими сердобольными существами; но я все-таки настаиваю на своем – и сколько бы меня ни потчевали госпожой Кохановской и "Роем на спокое", я этого triple extrait de mougik russe нюхать не стану, ибо не принадлежу к высшему обществу, которому от времени до времени необходимо нужно уверить себя, что оно не совсем офранцузилось, и для которого, собственно, и сочиняется эта литература en cuir de Russie.
Попытайтесь прочесть простолюдину – настоящему – самые хлесткие, самые "народные" места из "Роя": он подумает, что вы ему сообщаете новый заговор от лихоманки или запоя. Повторяю, без цивилизации нет и поэзии. Хотите ли уяснить себе поэтический идеал нецивилизованного русского человека? Разверните наши былины, наши легенды. Не говорю уже о том, что любовь в них постоянно является как следствие колдовства, приворота, производится питием "забыдущим" и называется даже присухой, зазнобой; не говорю также о том, что наша так называемая эпическая литература одна, между всеми другими, европейскими и азиятскими, одна, заметьте, не представила – коли Ваньку – Таньку не считать никакой типической пары любящихся существ; что святорусский богатырь свое знакомство с суженой-ряженой всегда начинает с того, что бьет ее по белому телу "нежалухою", отчего "и женский пол пухол живет", – обо всем этом я говорить не стану; но позволю себе обратить ваше внимание на изящный образ юноши, жень-премье, каким он рисовался воображению первобытного, нецивилизованного славянина. Вот, извольте посмотреть: идет жень-премье; шубоньку сшил он себе кунью, по всем швам строченную, поясок семишелковый под самые мышки подведен, персты закрыты рукавчиками, ворот в шубе сделан выше головы, спереди-то не видать лица румяного, сзади-то не видать шеи беленькой, шапочка сидит на одном ухе, а на ногах сапоги сафьянные, носы шилом, пяты востры – вокруг носика-то носа яйцо кати; под пяту-пяту воробей лети-перепурхивай.
И идет молодец частой, мелкой походочкой, той знаменитой "щепливой" походкой, которою наш Алкивиад, Чурило Пленкович, производил такое изумительное, почти медицинское действие в старых бабах и молодых девках, той самой походкой, которою до нынешнего дня так неподражаемо семенят наши по всем суставчикам развинченные половые, эти сливки, этот цвет русского щегольства, это nec ultra русского вкуса. Я это не шутя говорю: мешковатое ухарство – вот наш художественный идеал. Что, хорош образ? Много в нем материалов для живописи, для ваяния? А красавица, которая пленяет юношу и у которой "кровь в лице быдто у заицы?.." Но вы, кажется, не слушаете меня?
Литвинов встрепенулся. Он действительно не слышал, что говорил ему Потугин: он думал, неотступно думал об Ирине, о последнем свидании с нею…
– Извините меня, Созонт Иваныч, – начал он, – но я опять к вам с прежним вопросом насчет… насчет госпожи Ратмировой.
Потугин сложил газету и засунул ее в карман.
– Вам опять хочется узнать, как я с ней познакомился?
– Нет, не то; я бы желал услыхать ваше мнение… о той роли, которую она играла в Петербурге. В сущности, какая это была роль?
– А я, право, не знаю, что сказать вам, Григорий Михайлыч. Я сошелся с госпожою Ратмировой довольно близко… но совершенно случайно и ненадолго. Я в ее мир не заглядывал, и что там происходило – осталось для меня неизвестным. Болтали при мне кое-что, да вы знаете, сплетня царит у нас не в одних демократических кружках. Впрочем, я и не любопытствовал. Однако я вижу, прибавил он, помолчав немного, – она вас занимает.
– Да; мы побеседовали раза два довольно откровенно. Я все-таки себя спрашиваю: искренна ли она?
Потугин потупился.
– Когда увлекается – искренна, как все страстные женщины. Гордость также иногда мешает ей лгать.
– А она горда? Я скорей полагаю – капризна.
– Горда как бес; да это ничего.
– Мне кажется, она иногда преувеличивает…
– И это ничего; все-таки она искренна. Ну, а вообще говоря, у кого захотели вы правды? Лучшие из этих барынь испорчены до мозга костей.
– Но, Созонт Иваныч, вспомните, не сами ли вы назвали себя ее приятелем? Не сами ли вы почти насильно повели меня к ней?
– Что ж такое? Она просила меня вас доставить; я и подумал: отчего же нет? А я действительно ее приятель. Она не без хороших качеств: очень добра, то есть щедра, то есть дает другим, что ей не совсем нужно. Впрочем, ведь вы сами должны знать ее не хуже меня.
– Я знавал Ирину Павловну десять лет тому назад; а с тех пор…
– Эх, Григорий Михайлыч, что вы говорите! Характер людской разве меняется? Каким в колыбельку, таким и в могилку. Или, может быть… – Тут Потугин нагнулся еще ниже, – может быть, вы ей в руки попасть боитесь? Оно точно… Да ведь чьих-нибудь рук не миновать.
Литвинов насильственно засмеялся.
– Вы полагаете?
– Не миновать. Человек слаб, женщина сильна, случай всесилен, примириться с бесцветною жизнью трудно, вполне себя позабыть невозможно… А тут красота и участие, тут теплота и свет, – где же противиться? И побежишь, как ребенок к няньке. Ну, а потом, конечно, холод, и мрак, и пустота… как следует.
И кончится тем, что ото всего отвыкнешь, все перестанешь понимать. Сперва не будешь понимать, как можно любить; а потом не будешь понимать, как жить можно.
Литвинов посмотрел на Потугина, и ему показалось, что он никогда еще не встречал человека более одинокого, более заброшенного…более несчастного. Он не робел на этот раз, не чинился; весь понурый и бледный, с головою на груди и руками на коленях, он сидел неподвижно и только усмехался унылой усмешкой. Жалко стало Литвинову этого бедного, желчного чудака.