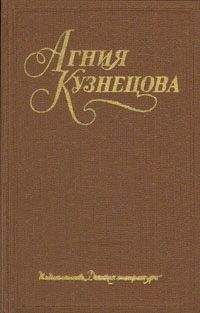— Да… да… хворал, сердечный!.. И Гришу-то он же около себя на заводе обучил. — Старушка ещё раз вздохнула и добавила. — Сам-то вот умер, а меня оставил маяться… Лет десять, али больше, совсем глухой был, а в последнее время так и совсем ничего не слышал. Умирает это он, а я стою вот так-то, у кровати. — Старуха повела рукою в сторону. — Спрашиваю его: родной, мол, какой завет перед смертью-то будет? Что, мол, прикажешь сыну-то, какое, мол, ему дашь благословение?.. Так ничего и не услышал, что ни спрашивала. Прошептал что-то этак… голову-то откинул, да и дух вон!..
Старушка смолкла, опустив голову и уставившись в пол грустными глазами… В комнате было тихо, за перегородкой по-прежнему плакал ребёнок, слышалась грустная колыбельная песня. «Глухарь» поднялся со стула, прошёл по диагонали комнаты к кровати, бесшумно ступая ногами, обутыми в чулки, обернулся и посмотрел на меня задумчивыми глазами. После этого он закурил папиросу, подошёл к столу, опёрся руками на спинку стула и громко сказал:
— Вот теперь и меня пропишите!
Я задавал ему обычные вопросы, а он отвечал. Почти каждый вопрос приходилось повторять по два раза. Я никак не мог взять такого тона, чтобы речь моя была слышна; несколько раз и «Глухарь» переспрашивал меня. Вдруг он приложил руки к вискам и прошептал:
— Наклоняться-то нельзя… чуть что — кровь хлынет к голове, и беда… круги, круги в глазах-то…
Он опустился на стул и закинул назад голову. Я смотрел на его, теперь побагровевшее лицо, сощуренные, лихорадочно блестевшие глаза, и молчал.
Когда «Глухарь» был опрошен, я обратился к старушке с вопросом — дома ли кузнец, листочек которого мне ещё не удалось заполнить.
— Опоздали, на работе он… Жена-то вот его, дочь моя, — та дома.
Она вышла, отворила дверку в перегородке и назвала имя жены кузнеца, прося её выйти и рассказать, что следует. Та не сразу согласилась на это, но, однако, вышла, держа на руках завёрнутого в одеяльце ребёнка, который тихо и жалобно хныкал. Двадцатипятилетняя молодая женщина, с бледным худощавым лицом, голубыми глазами, немного ввалившимися и грустными, — стояла передо мною и с каким-то смущением отвечала на мои вопросы.
Я записал всё, что касалось её, заполнил листок, предназначенный для её мужа, и предложил вопрос о ребёнке.
— Его-то разве тоже запишите? — спросила она.
— Да, да, непременно, — отвечал я, стараясь тоном своего голоса успокоить мать, заслыша в её голосе плохо скрытую и непонятную мне тревогу.
— Ну, уж… Что уж!.. Для чего, махонького-то? — забеспокоилась мать.
— Уж и не знаю, что вы! Что его и записывать-то! — вставила неожиданно и старушка, убиравшая со стола остатки ужина.
Я принялся убеждать молодую женщину, что, согласно инструкции, я должен записать и её сына, несмотря на то, что ему всего третья неделя. Она смущённо смотрела на меня и молчала.
— Что уж это! Крошка этакий, чуть на белый свет глянул, а его записывать! — продолжала ворчать старушка, вновь появившаяся из кухни.
Ей пришлось повторить то же самое, что уже выслушала от меня молодая женщина. «Глухарь» всё время стоял покойно у стола и молчал.
— И что вы, барин, выдумываете?.. Не крещён он! — продолжала свои нападения старушка.
— Ну, что уж это, маменька, нужно, так как же? — совсем неожиданно для меня осадила старушку молодая женщина.
— Нужно!.. Нужно!.. — передразнила её первая. — Посмотри вот, не выживет твоё дитятко! У мальчика ещё имечка нет, ангела хранителя у него нет, а они записывать…
Продолжая ворчать, она дошла до двери, обернулась и, грозя рукою дочери, добавила:
— У Филатовых-то вот тоже записали младенчика, а он к утру душу Богу отдал… Осквернили душу-то, греховодники…
Я вышел из квартиры «трёх поколений». Безлюдная, узенькая тёмная улица рабочего квартала показалась мне неприветливой, словно она ещё больше сузилась и потемнела. По сторонам стояли дома с освещёнными окнами. Я знал, что делается в большинстве рабочих квартир в этот час вечера; мне представлялась даже обстановка их, убогая, тусклая, неприглядная; мне припомнились встречи, разговоры, жалобы на жизнь… Вдруг, почему-то, припомнилась мне старушка, защищавшая ребёнка от моих греховных намерений записать его душу, ещё не осеняемую ангелом-хранителем; припомнилось её морщинистое старческое лицо, узкие плечи, сгорбленная спина… Когда она вспоминала о покойном муже и рассказывала мне о том, как умирал он — её глаза светились слезами; когда я записывал малютку — она сердилась, и в глазах её сверкала злоба… Бедная, бессильная свидетельница «трёх поколений»! Она не сумела уберечь мужа от глухоты и не спасла его от смерти, он даже не высказал ей своего завета!.. Он завещал сыну глухоту, а внуку… Он вырастет, около отца обучится ремеслу, женится, наплодит детей… Старушка умрёт, отдаст Богу душу её сын Гриша — «глухарь» — и новое поколение будет калечить себя, ломать руки и ноги, терять зрение и слух, и, в свою очередь, уступит место новым людям — и так долго-долго будет совершаться эта необходимая смена…
Вот уже есть представитель этой смены — сын кузнеца… Старушка глубоко верит, что если я запишу малютку наравне с взрослыми, стало быть, подготовлю невинному младенцу неминуемую гибель… Мне даже и самому стало казаться, что все эти дни переписи я заношу в списки имена каких-то погибших людей, что все они занесены в книгу несчастий, а их жизнь, изложенная в кратких ответах на тысячи листов — недописанная и трогательная поэма.
Мне предстояло совершить перепись жильцов одной очень странной квартиры. В продолжении четырёх дней работы я несколько раз подходил к запертой двери, стучался в неё, заглядывал в окно, выходившее на крытую галерею, в надежде увидеть кого-нибудь, кто отворил бы мне дверь, но мои попытки были тщетны. Дворник уверял меня, что в квартире есть люди, и даже несколько раз предлагал мне свои услуги достучаться, но я отклонял его предложение, стараясь собственными усилиями добиться успеха. Я только спросил дворника — кто обитает в этой таинственной квартире, на что он коротко ответил:
— Так… разные… хозяин высылать их хочет…
Утром 14 декабря моя попытка увенчалась успехом. Я постучался в знакомую дверь раз, другой, — на мой стук никто не отозвался; я заглянул в окно и после некоторого усилия рассмотрел за тусклым стеклом седую голову женщины, старческое жёлтое лицо и испуганные глаза… Немного спустя дверь отворила мне высокая старушка, в скромном тёмном платье и с тёмно-серым платком, наброшенным на плечи. Она попятилась назад, пробормотала что-то невнятно и с недовольным выражением в глазах громко выкрикнула:
— Нет их дома!.. Ушли куда-то…
Я спросил неприветливую старушку — о ком она говорит, и из её ответа понял, что дома нет хозяев квартиры, а что она, старушка, — жилица.
Я рассказал ей о цели своего посещения и уселся к маленькому столику у окна, приготовившись записывать ответы на листке, предназначенном для моей собеседницы.
— Не видно вам тут? Туда бы… в комнаты, да только, вишь ты, хозяин-то свою запер, а у меня там — дочь больная лежит…
Старушка развела руками и уселась на кровать. Я просил её не беспокоиться о моих удобствах и принялся заполнять листок. Она охотно отвечала на предложенные мною вопросы и только немного замялась, когда я спросил её о занятиях.
— При дочери я… так… сама-то ничего не делаю, — тихо ответила она и, поморгав глазами, добавила. — Раньше в прачках была, теперь уж стара стала: руки и ноги мозжат, в пояснице ноет…
Старушка съёжила плечи, как будто по её телу пробежало холодное дыхание, и принялась кутаться в платок. В крошечной кухне, где мы с нею беседовали, было холодно; я чувствовал, что в ноги мне дует от двери, а мои промёрзшие на улице руки нисколько не согрелись; посиневшие губы старушки вздрагивали, будто она говорила что-то неясно и беззвучно.
— Ваша дочь сильно больна? Может, она ответит на мои вопросы?..
— Хворает, милый барин, шибко хворает… Третью неделю с постели не встаёт.
Я стал заполнять листок дочери старушки со слов последней. При вопросе о годах — она поднялась, подошла к двери в соседнюю комнату и приотворила её.
— Саня! Саня!.. — несколько раз произнесла она, но на её зов никто не отозвался.
Я просил мать не беспокоить дочери, но это было уже поздно. В соседней комнате, откуда теперь падала на пол кухни полоска света, послышался вздох глубокий, звучный, потом я услышал слабый, протяжный стон…
— Вон барин спрашивает — сколько тебе лет?..
— Девятнадцатый, — после небольшой паузы послышался ответ.
Старушка заняла прежнее место у стола, а я продолжал писать…
Я услышал сдавленные тяжёлые рыдания и поднял глаза: лицо старушки было сморщено, со страдальческим выражением на дрожащих губах, из глаз лились слёзы… Я молчал, перелистывая листочки, чтобы хоть этим отвлечь своё внимание от плачущей, и слышал тихие и робкие рыдания. Мне хотелось встать, уйти и не слышать этих странных слёз, так неожиданно прорвавшихся и разоблачивших передо мною, может быть, долго скрываемые страдания, и, вместе с тем, мне хотелось остаться и разгадать тайну чужого горя.