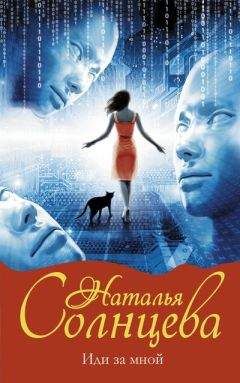- Парень, беги сюда.
Я подошел, и он показал на развороченный муравейник:
- Медведь закусывал. Муравьи так и кипят, так и кипят. - И подивился: - Как это его на муравьев тянет? Чего он в них хорошего находит? Такой большой! Может, он рематись лечит?
- Возможно, - согласился я.
- По одинке-то не ходи, - сказал на прощание дедушка. - Медведь ягоду ест, да корешки, да мед. А зароку не давал тебя не трогать.
- После обеда домой пойду, - пообещал я. - Все равно не клюет.
Я вернулся к удочке.
С неба упали голоса - редкие и хриплые. Летели два лебедя в бледном северном небе, и в промежутках между криками я слышал взмахи их крыльев. Птицы разговаривали между собой, и подумалось мне: неспешный разговор у них, как у всех путешественников, о том, что они узнают эти места, лес, речку Нарушу, что здесь изменилось, а что осталось таким, как было.
Лебеди летят - быть снегу.
Лебедей не было видно, а их голоса долетали до меня, как отзвук лета.
Мне показалось, что за мной кто-то наблюдает. Я огляделся и увидел на противоположном берегу, под дерновым навесом, толстого коричневого зверька с блестящими глазами. Он испугался моего взгляда и полез в нору под навесом, но лапы его скользили, и зверек переволновался порядочно, прежде чем спрятался в норе.
Где-то рядом, негромко переговариваясь, прошли две женщины, и было слышно, как осока шуршит по резиновым сапогам. Омут потемнел, запотел, как стекло от человеческого дыхания, резче запахло водой и торфом. Клев усилился: едва поплавок касался воды, как тут же шел в сторону. Время летело незаметно - велик ли осенний день. Я опомнился, когда мимо опять прошли две женщины и их голоса затихли в лесу. Фиолетовые тени лежали повсюду, а Чаруша курилась туманом, расстилала его по лугам - белый с синевой, как волны, будто речка вышла из берегов.
Я надел пестерь на плечи, пошатнулся и вступил в лес, куда только что ушли женщины, два негромких окающих окатных голоса.
Под ногами стучали скользкие бревна колодника, и я прибавил шагу.
Справа в отдалении я услышал разговор и удивился: "Почему справа? Там нет дороги, нет колодника". И еще я подумал: "Ладно ли я иду? Темно сейчас".
Но под ногами были бревна, и я успокоился. Прошел час, второй, третий. Я трижды уже мог попасть в деревню, а ее все не было. Не выдумываю ли я,, что минуло столько времени? Я зажег спичку и осветил часы - нет, не выдумываю: десятый час.
Спичка догорела у ногтей, высветив мокрые колени, сапоги по голенища в воде, и погасла. Ни колодника, ни тропинки не было. Я опять зажег спичку. Со всех сторон, закрывая небо, меня обступали невысокие северные сосны. Сухие понизу, они топорщились мертвыми сучьями, а в корнях их, куда . ни глянь, стояла вода.
Куда идти, я не знал.
В общем-то идти надо было на юг, но где этот юг - определить не представлялось возможным. Все хрестоматийные способы определения сторон света - по звездам, по густоте древесной коры, по муравейникам, по кольцам на пнях - не годились здесь. Ни звезд, ни пней, ни муравейников, ни деревьев с классическими кронами здесь не было, а было болото, оплетенное низкорослым густым сосняком.
В ночи по-кукушечьи одиноко вскинулся женский голос, такой же, как сегодня утром в начале моего пути. Я пошел на него, выставив вперед руки, чтобы не наколоть глаза. Удилища со мною давно не было, и я не помнил, где потерял его.
От усталости меня шатало из стороны в сторону. Я упал, оцарапал лицо, поднялся, попробовал зажечь спички, но в них попала вода, и они не загорались. Да если бы и загорелись, все равно негде развести костер, негде присесть, прилечь, вытянуть ноги: кругом вода, которую пить нельзя, потому что она, по сути, не вода, а болотная гущина, торфяная жижа. Одет я легковато по такому времени - в легкую штормовку. Летели лебеди, несли на крыльях снег, и я замерзну.
Я понял: не выйти мне из этого леса, как не вышла из него мать председателя сельсовета. Даже если на розыски вышлют вертолет, все равно меня не найдут. Просвета надо мной нет, все переплетено ветвями. Я закрыт со всех сторон, и нет мне отсюда выхода.
Я физически почувствовал удушье, глухо застонал и рванул под штормовкой ворот рубахи так, что брызнули пуговицы.
Мне захотелось бежать, бежать, чтобы увидеть перед собой простор, а под ногами ощутить твердую землю. В мозгу заполыхали искры, и обеими руками я схватился за ствол сосны. Я боролся с самим собой и удерживал себя на месте.
"Спокойно, - увещевал я себя. - Куда ты побежишь ночью? Сколько ты бредешь по лесу? Часов пять, не больше. Рассветет, и все переменится к лучшему".
Очень давно, на студенческой скамье, я записал в своем дневнике от переизбытка жизни следующее выражение: "Каждый человек живет в камере-одиночке, откуда всю жизнь пытается достучаться до других людей: вы меня слышите? Отзовитесь". Эту казавшуюся мне когда-то глубокой мысль я вспомнил сейчас в северном лесу, успокоился и отпустил сосну.
"Ты много жил, - сказал я себе, - и прекрасно знаешь, что камеры-одиночки нет и быть не может. Даже в тюрьме камни не мертвы, потому что на них можно вырастить зеленый росток. Кругом тебя живой лес. Чего ты его боишься? Подобрей к нему, и он к тебе подобреет".
Шаг по шагу я побрел дальше. Болото не проходило, но на ощупь в нем появились кочки.
Светало. Мне хотелось спать, и я примеривался руками, на какой кочке улечься, но подходящей не было - все малы и все тонут.
Я брел и под плеск и чмоканье болота под ногами видел сны. Задержала меня большая кочка. Я опустился на нее, положил пестерь под голову, улегся калачиком... На меня легла слабая болотная березка - видно, еще держалась, бедная, придавил я ей корни, и она повалилась. Отвести бы ее, да у меня сил не было. Слыша, как кочка подо мной погружается в воду и весь мой правый бок в воде, я крепко заснул.
Я не видел снов и проснулся оттого, что кто-то теребил меня за ухо. Дождь! Его капли попадали мне в ухо, и было точное ощущение, будто тебя тормошат за ухо.
Лежал я в воде, придавленный березкой, одна голова наружу, на пестере, и от холода не мог пошевелиться.
"Не отморозил ли я чего? - подумалось мне. - Руки-ноги целы или нет?"
И встрепенулся. Издалека по тонкой струе воздуха донесло до меня теплое, парное,, как молоко, жалобное ржание жеребенка. Он мать, наверное, потерял и звал ее, беспокоился.
Я вскочил на ноги, уронил березку. С меня шумно схлынула вода. Я быстро надел пестерь и, проваливаясь в болоте и натыкаясь на деревья, побежал на ржание жеребенка.
Скоро я почувствовал под ногами твердую землю и подивился, до чего же легко идти по ней.
Деревья здесь были выше, крепче, росли свободнее, их зубчатые или округлые вершины обозначились в серых потемках. Мне встретился огромный выворотень - разлапый корень упавшей сосны вместе с землей стоял щитом над ямой, куда не попадал дождь. В яме было многно сухих палок и корневищ, и если бы у меня не отсырели спички, я бы остановился здесь и разжег костер.
И опять заржал жеребенок. Господи, где же он? Не за той ли стенкой деревьев? Лес расступился, и я увидел озеро. Оно блестело посередине неярким зеркалом, и деревья темно отражались по краям его.
Я кинулся к нему выпить воды, но пить из озера было нельзя: кругом были коровьи следы и лепешки, а вода, если почерпнуть ладонями, пополам с песком. Озеро копаное, собиралась в нем вода, и от великой нужды пастухи здесь поили скотину.
Я обогнул озеро, радуясь, что жилье где-то рядом. Но дальше был опять лес, а над ним, над туманом выплывал синий бугор с высоким городом на нем, и я остановился, недоумевая, куда я забрел, к какому граду Китежу. Синий бугор круглился надо мной, покачивался в сумерках, и я решил, что это все-таки не город, а деревня из двухэтажных северных изб. Только та ли деревня, в которой ждет меня жена с хозяевами, или другая?..
Лес расступился. У подножия синего бугра в белом холодном дыму волнами перекатывались кустарники. Скоро и они остались позади, и я увидел лошадь и жеребенка. Они стояли по грудь в тумане, голова к голове, и прислушивались к моим шагам.
- Милые вы мои!
У меня остался ломоть хлеба. Я разломил его надвое и угостил их по очереди, по старшинству - сначала мать, а потом жеребенка. Они ели нежадно, и из ноздрей их, касаясь моего лица, бил горячий пар.
Прихрамывая, я пошел дальше. Лошади не двинулись за мной, остались стоять голова к голове.
Деревня на бугре была другая, избы повыше, числом побольше и все побелены инеем. Но одна изба, с серым камнем у крыльца, походила на ту, в которой я остановился. Я поднялся на крыльцо, на второй этаж, отдышался, открыл дверь, и меня обдало хлебным теплом. Во всех углах зашевелилось, заговорило на разные голоса.
Над общим шумом торжествовали знакомые слова:
- Что я говорил? Не удавится, так явится. Весь в муке. И корзинка с рыбкой в руке.
Я стоял, прислонясь к косяку, и слова не мог сказать, а жена плакала и тормошила меня: