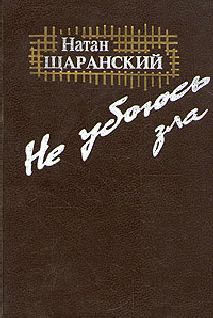Михаил Штерн, известный в Виннице врач, около трех лет назад был арестован и приговорен к восьми годам заключения по обвинению в спекуляции лекарствами и получении взяток. Все дело с самого начала носило характер демонстративной расправы с уважаемым человеком за его желание эмигрировать и явно имело целью запугать евреев. Обвинения и их обоснования были смехотворными, что лишь подчеркивало зловещий характер процесса. Все эти годы мы активно боролись за освобождение доктора Штерна. Четвертого марта, в тот самый день, когда появилась статья в "Известиях", я организовал для его жены очередную прессконференцию. Вскоре в Амстердаме международный общественный трибунал должен был рассмотреть дело Штерна. И вот он на свободе, отсидев лишь около трети срока,- случай поистине беспрецедентный! Формулировка АПН "амнистирован по гуманным соображениям, в связи с состоянием здоровья" никого не могла обмануть - это наша общая победа! Такое событие, конечно, следует отметить, но у Бороды в доме нашлось лишь немного коньяка. Я вместе со всеми выпиваю рюмку и даю корреспондентам свое последнее интервью.
- Мы все, конечно, счастливы, что Михаил Штерн на свободе, - говорю я. - Но очень может быть, что этот шаг сделан советским правительством для того лишь, чтобы отвлечь внимание западного общественного мнения от новых нападок на еврейских активистов, обвиняющихся в шпионаже. Не исключено, что именно сейчас могут начаться новые аресты.
- Машины КГБ уехали! - радостно сообщает в этот момент Борода.
- И за дверью "хвосты" больше не сидят, - говорит его жена Маша, выглянув на лестничную площадку.
Я смотрю в окно. Действительно, машины, стоявшей метрах в двадцати от подъезда, нет. Чтобы выяснить, осталась ли вторая, припаркованная вплотную к дому, я встаю на подоконник и выглядываю в форточку. Увы, эта машина не только на месте, она подъехала к самому входу. Да и "хвосты" не исчезли, а лишь поднялись, оказывается, на этаж выше и вроде бы с кем-то там совещаются.
- Что все это значит, по-вашему? - настойчиво спрашивают корреспонденты. Они, как и мы, заинтригованы происходящим, но о своей работе не забывают. Мне и самому не терпится узнать.
- Сейчас выясним это экспериментально, - говорю я и быстро одеваюсь. - Пойду звонить другим журналистам, сообщу о Штерне.
Пайпер и Сеттер, а также Борода, который все эти дни не отпускал меня от себя ни на шаг - "чтобы быть свидетелем, если тебя арестуют", идут со мной.
Возбуждение и коньяк делают свое дело: я забываю взять с собой сумку с теплыми вещами, которую не выпускал до того из рук - на случай ареста.
У лифта происходит заминка. Двое кагебешников сбегают по лестнице и заявляют:
- Поедете с нами.
Такая наглая манера поведения стала для них в последнее время обычной. В лифт разрешено входить только трем пассажирам, хотя поместиться в нем могут и пять человек - так мы часто и ездили. Однако на сей раз нас с "хвостами" шестеро. После небольшого колебания Борода решает, что присутствие корреспондентов рядом со мной важнее. Впервые за эти дни он оставляет меня и поспешно спускается с седьмого этажа. В следующий раз я увижу его только через одиннадцать лет.
В лифте все мы тесно прижаты друг к другу. Я буквально упираюсь носом в рацию "хвоста", висящую у него на груди под пальто. Это тот самый белобрысый весельчак, который будет сидеть со мной в машине справа от меня. Я обмениваюсь с корреспондентами какими-то малосущественными репликами и вдруг замечаю, что согнутая в локте и прижатая к груди рука "хвоста" дрожит.
- Они нервничают - кажется, сейчас что-то произойдет, - говорю я по-английски.
Это мои последние слова на воле. Лифт открывается, я делаю несколько шагов к выходу из подъезда - и, подхваченный множеством рук, пролетаю сквозь двери прямо в машину.
...В Лефортово меня вводят в какой-то кабинет, и я вижу встающего из-за стола, добродушно, по-домашнему улыбающегося пожилого человека в очках.
- Заместитель начальника следственного отдела УКГБ по Москве и Московской области подполковник Галкин, - представляется он, а затем мягко и даже, мне кажется, немного смущенно говорит, протягивая какую-то бумагу:
- Вот, будем работать с вами вместе.
Читаю: постановление об аресте "по подозрению в совершении преступления по статье шестьдесят четвертой - измена Родине: оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР ".
Кладу быстрее листок на стол, чтобы Галкин не заметил, как дрожат мои руки. Заныло сердце, и запершило в горле: несмотря на то, что статья в газете подготовила меня к этому обвинению, до самой последней минуты я надеялся - может, все же не шестьдесят четвертая, а семидесятая -"антисоветская агитация и пропаганда"...
- Наверное, не были готовы к шестьдесят четвертой, думали -семидесятая? - словно прочитав мои мысли, все так же добродушно, почти ласково, спрашивает Галкин.
- Нет, почему же, вы ведь заранее сообщили мне через "Известия", что я шпион. Это было очень любезно с вашей стороны, - отвечаю я, стараясь презрительно усмехнуться. Но голос мой неожиданно срывается на хрип, да и усмешка, кажется, получилась жалкой.
Однако Галкин явно разочарован результатом.
- Ах да, "Известия", - поскучнев, говорит он и тут же обращается к надзирателям уже довольно сухим, официальным тоном:
- Приступайте к обыску.
Входит пожилая женщина в белом халате - фельдшерица. Мне корректно, но решительно предлагают раздеться догола. Начинается личный обыск: осматривают вещи и - так же скрупулезно и бесстрастно - тело, словно оно для них - еще один неодушевленный предмет.
Тебе демонстрируют самым наглядным образом, сколь резко изменилось твое положение. Отныне и впредь не только твои вещи, книги и записи - даже собственное тело тебе больше не принадлежат. В любой момент могут вывернуть твои карманы, сорвать с тебя одежду, залезть пальцами тебе в рот или в задний проход.
Я встречался с людьми, которые провели в ГУЛАГе годы, сотни раз подвергались обыскам, но так и не смогли к ним привыкнуть, каждый раз заново переживая личный обыск как унижение. Человек же, чувствующий себя униженным, потерявший уважение к себе, может стать злобным, мстительным, коварным, но никогда - сильным и стойким духовно. А насильники умело используют его ожесточенность, направив ее против таких же зеков, как он сам, и этим ускоряют его окончательное нравственное падение.
Но это знание пришло ко мне потом. А в тот момент я обратился к своему опыту предыдущих кратковременных арестов на пятнадцать суток, которые тоже сопровождались обысками. Тогда я решил: ничто из того, что они делают со мной, не может меня унизить. Может ли, скажем, оскорбить человека ураган, срывающий с него одежду, или верблюд, плюнувший ему в лицо? Лишь сам я могу унизить себя, если совершу поступок, за который мне потом будет стыдно. Первое время в Лефортово мне пришлось не раз напоминать себе об этом принципе, пока я с ним не свыкся полностью. С тех пор уже ничто: ни обыски, ни наказания, ни даже несколько бесплодных попыток насильственного кормления через задний проход во время моей голодовки в восемьдесят втором году - не могло вызвать во мне ощущения, что меня унизили.
Однако в тот первый час после ареста мне все же не удалось полностью избавиться от некоторого смущения, когда я стоял голым перед тремя старшинами и фельдшерицей. Пока она и один из старшин изучали мое тело, двое других прощупывали каждую складку моей одежды, а сидевший рядом за столом подполковник Галкин перебирал и записывал в протокол изъятия найденные у меня в карманах вещи. Дойдя до фотографии жены, он вдруг расплылся в приторно-сладкой улыбке:
- А вот и Наташа! - и бережно отложил ее в сторону. Повернувшись ко мне, он объяснил:
- Я ведь готовился к встрече с вами, поэтому и с вашей женой по карточкам знаком.
Несколько дней назад, после очередного обыска, в недрах КГБ вместе со всеми моими вещами, документами, письмами Авиталь (так ее стали называть в Израиле) исчезли и все ее фотографии. Эта была последней, снимок сделал папа летом семьдесят четвертого года - за несколько дней до нашей хупы и разлуки. Фотография была мне очень дорога, и я всегда носил ее с собой. Именно сейчас, когда ее у меня отобрали, я вдруг осознал, что остался теперь совсем один, и, не удержавшись, спросил:
- Могу я взять карточку в камеру?
Галкин ответил все так же приветливо, с услужливостью продавца, дающего покупателю дельный совет:
- Она будет храниться на складе личных вещей, и если вы договоритесь с руководством тюрьмы, то ее вам дадут.
"Руководство тюрьмы" не заставило себя ждать: в комнату решительным шагом вошел коренастый полковник лет шестидесяти. В руках он держал газету "Известия" - тот самый номер, как сразу же отметил я.