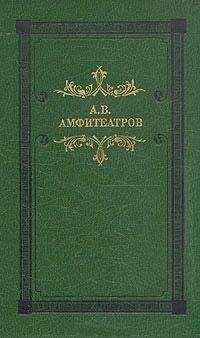— Охотно верю. Дальше.
— Ну, в одно прекрасное утро они поссорились сильнее обыкновенного — и Катя исчезла, оставив мне самую резкую записку, какую только можно вообразить.
— Гм!
— Ты не веришь? Напрасно! Взгляни!
«Папа, — прочитал Александр Николаевич, — мне тяжело в вашем доме так, что больше терпеть я не в силах. Я буду жить одна у добрых людей. Там, по крайней мере, меня обижать никто не посмеет. Мне ничего не надо, никаких денег, но не требуйте меня домой. Выгнать Александру Кузьминишну вы не решитесь, а жить вместе с этой подлой женщиной я не стану, лучше умру. Не сердитесь на меня за это, а я не сержусь. Ваша Катя».
— Позвольте, папа: в этой записке нет ни одного знака препинания, мерзкий почерк, «вместе» через два «есть» написано, не «посмеит» вместо не «посмеет»… Неужели это Катя писала?
— Друг мой, ты знаешь, как туга она была на науку, а в последние годы она книги в руки не брала.
— Но все-таки… Кстати: вы ее где учили?
— Домашним воспитанием…
Александр Николаевич досадливо махнул рукой.
— То-то она пишет как прачка!.. Но что она может делать там, у этой Федосьи? Ну, я помню ее — отличная женщина, но не станет же она держать Катю на хлебах даром. Вы говорите, Катя денег не взяла?
— Ни копейки, и все, что я ни посылал, возвращала.
— А звать ее назад вы пробовали?
— Да, но она резко отклонила мои просьбы, а потом и…
— И Александра Кузьминишна запретила. Эх!.. Необразованная, воспитанная белоручкой — на что годится она там?!
— Ах, Саша! — Николай Евсеевич прослезился, — мне передавали, будто она ужасно опустилась, стала совсем comme une paysanne[2]; одевается по-ихнему, так же работает, как они…
— Ну, это еще — куда ни шло! я сам целых шесть лет состоял хуже чем в пейзанах, пока не выбился в люди…
— Но, Саша! прибавляют, будто она очень дурно ведет себя, что она забыла всякий стыд и женственность…
— Катя?!
— Да, cher… Et l'on dit enfin, что у ней есть… un amant…[3] A? каково это слышать?!
— Продолжайте, — наморщив лоб, мрачно сказал сын.
— Другие говорят, что их не один, а много… Чего же тебе еще? Я все сказал…
— Действительно, вполне достаточно.
— Позволь! Куда же ты? — вскрикнул Николай Евсеевич, видя, что сын взялся за шляпу.
— В Теплую слободу, разумеется. Надо мне взглянуть на Катю. Что ей сказать от вас?
— Я… я не знаю… так неожиданно… я совсем не затем говорил… — залепетал старый Чилюк.
— Не могу же я оставить свою родную сестру черт знает в каком положении!
— Да, черт знает в каком… Как это странно, однако: вообрази, я считал тебя демократом!..
— К чему вы это? — изумился Александр Николаевич на недоумелую улыбку отца.
— Нет, так…
— Хотите вы, чтобы я вернул ее к вам?
Старик замялся.
— Друг мой! знаешь ли… по-моему, это неудобно… Конечно, я — как отец… но она так компрометировала мое имя, и потом… потом, если правда, что говорят об ее поведении, то как хочешь, держать ее в доме совсем неприлично… смеяться будут.
— А теперь над вами не смеются разве? Я думаю, хохочут по всей губернии!
— Увы! увы! Ты совершенно прав, мой друг… и вот поэтому-то я имею к тебе большую просьбу… очень большую… Уговори ты Катю уехать!
— Куда?
— Да чем дальше, тем лучше; чтобы забыли про нее в здешних местах. Согласись, что я в ужасном положении: вечно под боком живой упрек, и всякий этот упрек видит… и наконец, чем я виноват, если она убежала?!
— Я вот что сделаю, — задумчиво выговорил Александр Николаевич, — я предложу ей уехать со мною.
— В Америку?! — обрадовался Николай Евсеевич.
— Зачем в Америку?! Я могу ее устроить в Петербурге, у моих друзей… Денег я предложу ей от себя, потому что от вас, как я замечаю, она, пожалуй, и не возьмет.
— Не возьмет! ни за что не возьмет! она гордая… Ах, Саша! если бы ты это устроил, я бы тебе, хоть ты и сын мне, в ножки поклонился! — прочувствованным тоном говорил Николай Евсеевич, пожимая руки сына, — ты и ее, несчастную, спасешь…
— И вам руки развяжу?
— Да, освободишь мою совесть… Саша, скажи: очень ты меня сейчас презираешь?
Александр Николаевич отвернулся. Ему было жаль отца…
— Эх, папа!.. — выразительно вырвалось у него. Он махнул рукой, взял шляпу и вышел.
«Все-таки спасибо матери, — думал Александр Николаевич, идя узким проселком между двух волнующихся морей желтой ржи, — спасибо, что она родила меня похожим на нее, а не на отца. Распущенность, бесхарактерность, барство… это черт знает что такое! особенно если долго их не видишь и поотвыкнешь… Право, если подумать, что при другой, более нежной маменьке и из меня, пожалуй, развилось бы что-нибудь этакое расплывчатое, — можно извинить покойнице все ее порки, затрещины и колотушки».
Александр Николаевич шел пешком, потому что не хотел брать в Теплую слободу вместе с повозкою и кучера, чтобы не сделать, в его лице, всю отцовскую прислугу свидетелями свидания — не совсем-то ловкого, как он ожидал. Короткую дорогу до Теплой слободы он отлично помнил: в детстве ему часто случалось бегать в этот бойкий пригород поглазеть на воскресный базар, на девичьи хороводы и подвыпивших мужиков. Теплая слобода была местом шумным и людным, — на шоссейном тракте, с постоялыми дворами, трактиром, панскими лавками, кузницами. Народ здесь жил богатый, больше мастеровой и торговый, работящий и трезвый… по крайней мере, не слишком пьяный: полслободы было заселено староверами-беспоповцами какой-то мелкой и пьющей секты. Ковачи, бабы-кружевницы и огороды Теплой слободы далеко славились.
Стук кузнечных молотов встретил Александра Николаевича далеко за слободской околицей. В черте селения он стал почти нестерпимым для ушей. Слободская улица открывалась целым рядом ковален, дымных и грязных, где кузнецы двигались, черные, как черти в аду.
— Бог в помощь! — сказал Александр Николаевич дюжему мастеру, возившемуся с топором на ветхой покрыше лошадиного станка, — здравствуйте!
— Здравствуйте и вы! — ответил мастер, не отрываясь от работы.
— А где здесь, почтенный, живет Федосья Ивановна?..
— Которая Федосья Ивановна? три их у нас… старостиха — раз, лавочница — два, а третья — тетка Федосья, кружевница…
— Ее-то мне и надо.
— А зачем вам тетку Федосью? — возразил мастер, роняя к ногам Чилюка длинные щепки, летевшие из-под быстрого топора.
Чилюк усмехнулся:
— Милый, ведь тебя не теткой Федосьей зовут? с чего же я тебе буду рассказывать, что мне надо?
Мастер воткнул топор в покрышу и по столбу спустился наземь.
— Нет, я ведь почему спросил, — добродушно извинился он, — еще здравствуйте… почему спросил? Федосья Ивановна-то родная тетка мне выходит… вон оно что… Я у нее заместо сына сызмалу принят…
Александр Николаевич, живя с джон-булями и янки[4], заразился от них любовью к физической силе, свойственною западным народам гораздо в большей степени, чем нам, русским. Чилюк и сам был крепыш, точно из меди отлитый, но таких богатырей, как стоявший перед ним мастер, он и не видывал. Лицо мастера было запачкано сажей, только большие голубые глаза весело и ясно улыбались на этой темной маске. Рукава рубахи мастер засучил и обнажил такие мускулы, что Чилюку даже весело стало.
— Здоров же ты, брат! — сказал он богатырю.
— Что мне делается! — ответил тот, широко и добро улыбаясь, — а тетки-то нету. Вы за кружевом, верно?
Александр Николаевич нашел, что ему подсказано хорошее incognito…
— Да, за кружевом.
— Нету ее. В город ушла плетеное продавать. Нынче в городе базар, — четверток на дворе… Да вы — ничего, пройдите. Коли заказать надо, так и Катерина Николаевна принять может… жилица у нас… — пояснил он, — и, что готового есть, покажет. Я вам мальчонку дам, он проводит…
Двор кружевницы, однако, был затворен. На калитке висел замок. Мальчонка перевалился через плетень и предложил Чилюку последовать его примеру. Чилюк исполнил это гимнастическое упражнение с ловкостью, заслужившей полное одобрение черномазого вожатого.
— Добре сигаешь, барин… — сказал он, — ты посиди часок на крылечке, а я за Катериной побегу… на огородах она…
Федосьина усадебка была из самых исправных в Теплой слободе, а Теплая слобода — из самых исправных великорусских пригородов. Во дворе чувствовалось то, что крестьяне называют полной чашей. Чилюк видел и понимал это относительное невзыскательное довольство, но, с отвычки от русской деревни, ему все-таки казалось, что кругом и бедно, и грязно…
«Впрочем, я и не в таких мурьях живал, — не без самодовольства подумал он. — Дивны дела Твои, Господи!.. Вот уж не подумал бы я месяц тому назад, что переплываю океан затем, чтобы сидеть теперь между плетней, смотреть на сорный двор с курами и этим бравым петухом… ишь орет… какой красный черт! — в ожидании таинственной сестрицы, не то барышни, не то мужички, которая — еще Бог знает кем окажется и как примет мое появление…»