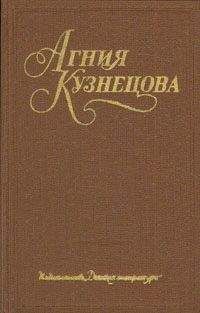Пьяница… но ещё что?.. Ещё… Я скоро кончу мой путь… Достаточно?.. Что такое?
Учитель оглядывается вокруг себя, – ему кажется, что кто-то перебил его пьяное бормотанье тяжёлым вздохом… В комнате полутьма и тишина. Взвизгивая, маятник часов отсчитывает секунды. Одинокий человек уже сильно пьян.
Он крепко трёт лоб одной рукой, а другой, упираясь в ручку кресла, пробует подняться и не может.
– Напился, мама… как скот!
И он печально опускает голову на грудь…
– Ты говорил, Сенека, – пусть даже жизнь великое и несомненное благо… – н-но я не куплю его… за сознание собственной гнусной слабости… Ты не купил… ты благородно умер. А я покупаю… и зачем мне н-нужна жизнь? Зачем? Мне и сотням тысяч подобных?.. Ты сказал:
«Жизнь плохо сторожит нас…» Да, но мы довольно… ловко избегаем смерти… Кто это говорит?
И он снова оглядывается вокруг расширенными и налитыми кровью глазами. Никого нет.
– Н-да… Никто не говорит… а между тем я слышал голос… Я знаю, что это… Я понимаю… хотя я и пьян… Зачем я пью… зачем? Мама, зачем?.. Ведь так я погибаю, мам…
Пьяное бормотанье обрывается плачущей нотой, чем-то вроде визга. И учитель, наклонив голову на грудь и упираясь руками о ручки кресла, тихо плачет сам о себе, ибо чувствует страшную жалость к себе, постепенно погибающему человеку, и жалость эта тем более горька и тяжела, что во всём мире есть только один человек, которому действительно и искренно жалко его. И как он ни пьян, как ни больно ему, всё-таки в нём живо некоторое чувство, и оно сквозь слёзы заставляет его говорить такие речи:
– Разве это я сам? Разве я погиб бы… если бы… кто-нибудь… хоть однажды… Только ты, мама… умела, бывало… обласкать твоего сына… только ты, дорогая моя… Голубушка!
И при воспоминании о матери слёзы ещё сильнее льются из его пьяных воспалённых глаз.
А в комнате темно и тихо, потому что луна уже высоко и лучи её больше не смотрят в окно.
Глаза учителя устремлены на стол; на бутылке с водкой виднеется тусклое пятно, точно чей-то большой глаз с бельмом…
– Спать…
Он пробует подняться на ноги, долго возится и не может встать.
– Вот как напился! – громко говорит он, и голова его понуро опускается на грудь…
Каждый человек есть вселенная… под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история… Парадокс работы романтика Гейне… Почему все знаменитые евреи – идеалисты и романтики?.. Да… что такое?..
– …Могила… и в ней я… всемирная история… Это смешно… Я пьяница… а вселенная – чёрт знает, что такое… но я в ней один…
Лицо у него то и дело перекашивается от тех усилий, с которыми он говорит, борясь с рыданиями, подступающими к горлу. И его щёки мокры от слёз… Концы усов опущены книзу, галстук съехал на сторону, и расстегнувшаяся рубашка обнажает неровно дышащую грудь…
Бывают моменты, когда в комнате слышны только визги и удары маятника да хриплое дыхание пьяного.
Но они кратки, потому что учитель всё хочет сказать что-то и всё бормочет свои бессвязные речи.
Он просит прощения у мамы и жалуется ей на жизнь и оправдывает пред нею себя…
Потом обращается к Жене с почтительной речью не без нотки горького скептицизма и говорит со стоиком Сенекой тоном уважения о понимании жизни…
И вдруг начинает хохотать диким и пьяным смехом. Он никого не разбудит своими речами: к нему уже привыкла его квартирная хозяйка, а кроме неё, никто не может услыхать его.
И часто, не имея сил добраться до своей постели, он так и засыпает в кресле вплоть до утра…
Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, номер 62, 17 марта.
В собрания сочинений не включалось.
Печатается по тексту «Самарской газеты».