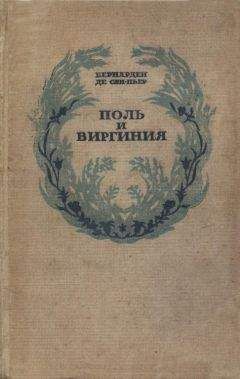— Коли нельзя! Можно… Да ты топерь–то уйди… Ей–Богу, бабы смотрят. Ужо вон по тому порядку ступай, а мы пойдем по задам, на дороге и сойдемся… Не то еще подождем тебя у мельницы… А топерь ступай себе!
Наймист послушался и отошел. Параша, немного ско–сясь в сторону, долго следила за ним сквозь пеструю и шумную толпу, которая к полудню совсем разгулялась.
— Ну, а не ровен час, Ульяна, — сказала она потом, — как из наших кто увидит, как он с нами пойдет…
— Ну, чево ж ты робеешь? Ведь на тебя никто не подумает… Что ж нам с дороги гнать его? Человек волен идти — ну, и пристал, знамо дело, поговорить… Поди вон прогони его с дороги… не прогонишь ведь!
Параша успокоилась.
Несколько часов спустя наймист благополучно проводил их до деревни, но, к большому удивлению Ульяны, всю дорогу говорил с Парашей.
Они шли по большой дороге, за крестьянскими огородами, которые вплоть подступали к редкой в этом месте березовой аллейке. Вскоре солдатка, несколько огорченная, своротила в свой огород и скрылась на тропинке, протоптанной в густой и высокой конопле. Еще несколько шагов — и Параша увидала, как она отворила заднюю калитку на дворе своего свекра. Калитка затворилась со скрипом. Параша и наймист остались вдвоем. Отец Параши жил на самом западном конце деревни, так что им осталось пройти вместе пространство, равное дворам десяти.
Наймист подошел поближе к ней и опустил руку ей на плечо.
— Скажи ж ты мне: как тебя звать по имени?
— Прасковья…
— Эх, Параша, Параша! Уж какая ты пригожая да красивая!..
Параша улыбнулась. — Ты еще гожее меня!
— Да что ты это?.. ты лицом уж больно хороша, Параша .. Ведь вот впервые ноньче увидал тебя, а так словно приворожила к себе… Ей–Богу, ну! Давича, на торгу, вершинские мужики зовут в деньги играть, так куда–те! и охота вся отошла… так словно неволя какая к тебе все и волокет! Ну, дай–ка я те поцалую Параша..
Параша отклонилась.
— Что ты это? — сказала она. — Что ты это? Бог с тобой… Ведь тут все наши ходят… Вон видишь — старухи идут… Пусти… надо домой! Ступай…
— Какие старухи? Старухи еще вон где! Они со старости–то и глазами не видят… Ах ты мое солнушко! не пущу я тебя! Посидим тут, у сарайчика… За конопельками не видать… Ей–Богу, вишь как тут тоже! Ничего, как есть, ничего не видать…
Параша старалась вырваться. Старухи приближались.
— Пусти ж ты! какой! пусти, голубчик.
— Ну, любо, — пущу .. Смотри же, завтра выходи сюда супротив ночи, к зоре, что ль…
— Выйду — вот руки мои отсохни… выйду! Пусти… Наймист пустил ее.
Параша сдержала слово, и он на следующий вечер нашел ее у сарая, за коноплями.
Параша полола, присевши на землю. Он опустился тоже на траву, для безопасности. Им было очень удобно тут: с большой дороги ничего не было видно за стеной конопли и за хмелем, который сетью забегал с ближней ветлы на сарай и стлался по соломенной крыше. Калитку на двор отца Параша притворила плотно, и старые скрипучие петли непременно бы известили их о приближающейся опасности.
Долго говорили они; о чем и как — я не берусь описывать — только под конец Параша перестала полоть и задумалась. Он, как водится, наобещал ей кучу всякого добра в будущем.
— Ты посмотри–ка, — сказал он ей, — какой я плечистый да рослый… меня, хоть об заклад сейчас, в гвардию! У меня в гвардии дядя унтером есть… Так тетка–то словно барыня ходит! Вот что! Я тебя тогда возьму за себя, так и ты так будешь ходить…
Словом, Параша склонялась все больше и больше и наконец, скрепя сердце, объявила ему, что завтра она с отцом будет убирать сено на пчельнике и останется там ночевать.
Наймист удовлетворился этим косвенным приглашением и кстати, потому что, тотчас после его ухода, мать заскрипела калиткой и вошла в огород.
Вот почему Параше было так жутко ехать на пчельник…
Солнце уж начинало заходить за деревья; тени толстых лип бесконечно длинными полосами легли на полянку, еще недавно покрытую высокой травой и мелкими луговыми цветами, а теперь так гладко подстриженную косою старика. Промежутки листьев, кустов и сучьев, озаренные прощальным светом, блистали еще ярче полдневного.
На лужайке высились две аккуратно насыпанные копенки. Параша докончила одну из них, когда отец сказал ей:
— Поди–ка у осинника сгреби маненечко! Я подкосил там давича… А я поотдохну пока.
Параша пошла к молодому осиннику, который был недалеко от пчельника, отыскала скрытый в самой чаще небольшой лужок и начала сгребать траву.
Скоро и на этом месте поднялась копна. Параша устала после знойного дня и прилегла на свежее сено. Незаметно заснула она под шопот осинника и под вечернее чириканье птиц, сбиравшихся на ночлег.
Настала ночь; и какая благоуханная, тихая, месячная ночь! На деревне один за другим гасли огни; уж и песня, долго тянувшаяся в поле так уныло — замолкла…
Освеженные росой поля ржи стояли недвижно, точно отдыхая от дневных набегов ветра.
В лесу была страшная тишина.
Окрыленный надеждой наймист скорыми шагами шел по большой дороге; уж видна была роща, где назначила ему свиданье черноглазая девушка.
Вот он своротил с большака на тропинку; перед ним чернел небольшой лесок, за леском глубокая лощина, за лощиной гора, на горе роща.
Бодро накинув поддевку на правое плечо, вошел он в лесок. Идет — ничего…
Вдруг направо хруснуло что–то. Он прислушался. Все замолкло опять… Опять хруснуло. Еще и еще. Потом просто послышались шаги и, шумя и раздвигая ветви, вышел на узкую дорогу какой–то человек.
Наймист продолжал, не останавливаясь, свой путь. Человек посторонился и пропустил его.
Они уж были шагах в двадцати один от другого, как вдруг встречный закричал:
— Эй! молодец! Почтенный мой! Как, почтенный, в Печоры пройти?
Наймист остановился и стал толковать ему. В это время по левую сторону дороги сильно зашумели. Опять затрещал орешник, и на этот раз вышло из чащи не один, а два мужика. Не останавливаясь ни на секунду, пошли они прямо на молодого парня, и в то же время, как бы переменив намерение идти в Печоры, вернулся и первый.
Наймист понял в чем дело. Сердце его на минуту замерло, но смелость взяла вверх над мимолетною робостью. Он приосанился и спросил у них звучным голосом:
— А что вам от меня надо?
— А то, что раскошеливайся! — отвечал самый высокий и плечистый из бродяг.
— Ну, а коли денег у меня нет?
— Коли нет! Должно быть, что есть! Разве глаз у нас нету?.. В Печорах на ярмарке мошну твою видели… Вчера, за коноплями, ты что девке говорил?.. Мы с большака все слышали!.. Ну, ну, раскошеливайся!
— А вот как я–те раскошеливать начну! — крикнул наймист и с яростью ударил говорившего крепким кулаком в лицо.
Здоровяк пошатнулся.
— Вот, на тебе! — сказал он другому и наотмашь угостил его в грудь.
Тот грянулся оземь со стоном. Казалось, победа была на стороне моего героя; но тот, который до сих пор не принимал участия в бое, вдруг схватил его сзади под силки. Началась страшная борьба. Лежавший вскочил и с злобой кинулся ему на грудь.
Наймист не уступал: жаль было отдать деньги. Шляпа с него свалилась, русые кудри были растрепаны; по лицу, бледному от усилий, катился пот; красная рубашка, которую он надел для Параши, висела клочьями на белой и крутой груди.
Месяц светил ясно на дорогу, и наймист хорошо различал озлобленные лица своих противников.
Вдруг среди немого боя ему послышался стук телеги по большой дороге. Он закричал караул. Близкий стук телеги умолк на мгновенье. Он хотел еще раз крикнуть, но удар дубиной по обнаженной голове лишил его голоса и чувств.
Прошлого года, летом, я опять был в этих странах и попал на ярмарку в Печоры.
Ярмарка была очень многолюдна и только к вечеру стала редеть. Мы болтались вдвоем с любезным помещиком этого села по большому лугу, на котором остальные посетители ярмарки рассеянными группами доканчивали веселый день. Большей частью это были печорские крестьяне.
Устав наконец, мы присели под навес какого–то амбара и молча смотрели.
— Хотите видеть Парашу? — спросил вдруг мой спутник.
Я изъявил желание. Он показал в ту сторону.
В самом деле, это была Параша. Ее все знали в окружности; она не пропускала ни одной соседней ярмарки и являлась на все праздники опрятно одетая и молчаливая; усердно молилась в церкви и потом, сидя где–нибудь в уголку, глядела на народ своими большими черными глазами. Глаза эти сохранили свой блеск, да и вообще она мало переменилась в лице с того времени, как я видел ее в последний раз. Но как бы ошибся тот, кто стал бы искать в ее взгляде прежней миловидной смышлености и той влаги, полной затрогивающего выраженья, за которыми я с таким молодым рвением любил следить лет пять тому назад. Взгляд ее был кроток, но тут бесцелен и дик. Впрочем, помешательство ее не имело в себе ничего особенного: она всегда, говорят, тиха, иногда работает и помогает родителям, но слова от нее добиться очень трудно, и еще, если увидит зеленую нанковую поддевку на красной рубашке, непременно укажет пальцем и засмеется так, что на душе станет неловко, а потом спрячется куда–нибудь и тихонько плачет.