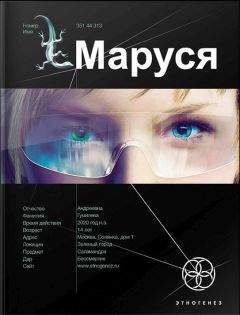Повар догадался сбегать за доктором. Пришел доктор, Иван Адольфович, маленький человечек, весь состоящий из очень большой лысины, глупых свиньих глазок и круглого животика. Ему обрадовались, как отцу родному. Он понюхал воздух в спальной Егорушки, пощупал пульс, глубоко вздохнул и поморщился.
– Вы не беспокойтесь, ваше сиятельство! – сказал он княгине умоляющим голосом. – Я не знай, но, по моему мнений, ваше сиятельство, я не нахожу, чтобы ваш сын был в большой, так сказать, опасности… Ничво!
Марусе же он сказал совершенно другое:
– Я не знай, княжна, но, по моему мнений… У всякого свое мнений, княжна. По моему мнений, его сиятельство… пфф!.. швах, как говорит немец… Но всё зависит… зависит, так сказать, от кризис.
– Опасно? – тихо спросила Маруся.
Иван Адольфович наморщил лоб и принялся доказывать, что у всякого свое мнение… Ему дали трехрублевку. Он поблагодарил, сконфузился, покашлял и улетучился.
Придя в себя, княгиня и Маруся решили послать за знаменитостью. Дороги знаменитости, но… что ж делать? Жизнь близкого человека дороже денег. Повар побежал к Топоркову. Дома, разумеется, он его не застал. Пришлось оставить записку.
Топорков не скоро отозвался на приглашение. Ждали его, с замиранием сердца, с тревогой, день, ждали всю ночь, утро… Хотели даже послать за другим доктором и порешили назвать Топоркова невежей, когда он приедет, назвать прямо в лицо, чтобы он не смел в другой раз заставлять других ожидать себя так долго. Обитатели дома князей Приклонских, несмотря на свое горе, были возмущены до глубины души. Наконец в два часа другого дня к подъезду подкатила коляска. Никифор стремительно засеменил к двери и через несколько секунд наипочтительнейше стаскивал с плеч своего племянника драповое пальто. Топорков кашлем дал знать о своем приходе и, никому не кланяясь, пошел в комнату больного. Прошел он через зал, гостиную и столовую, ни на кого не глядя, важно, по-генеральски, на весь дом скрипя своими сияющими сапогами. Его огромная фигура внушала уважение. Он был статен, важен, представителен и чертовски правилен, точно из слоновой кости выточен. Золотые очки и до крайности серьезное, неподвижное лицо дополняли его горделивую осанку. По происхождению он плебей, но плебейского в нем, кроме сильно развитой мускулатуры, почти ничего нет. Всё – барское и даже джентльменское. Лицо розовое, красивое и даже, если верить его пациенткам, очень красивое. Шея белая, как у женщины. Волосы мягки, как шёлк, и красивы, но, к сожалению, подстрижены. Занимайся Топорков своею наружностью, он не стриг бы этих волос, а дал бы им виться до самого воротника. Лицо красивое, но слишком сухое и слишком серьезное для того, чтобы казаться приятным. Оно, сухое, серьезное и неподвижное, ничего не выражало, кроме сильного утомления целодневным тяжелым трудом.
Маруся пошла навстречу Топоркову и, ломая перед ним руки, начала просить. Ранее она никогда и ни у кого не просила.
– Спасите его, доктор! – сказала она, поднимая на него свои большие глаза. – Умоляю вас! На вас вся надежда!
Топорков обошел Марусю и направился к Егорушке.
– Открыть вентиляции! – скомандовал он, войдя к больному. – Почему не открыты вентиляции? Дышать чем же?
Княгиня, Маруся и Никифор бросились к окнам и печи. В окнах, в которые уже были вставлены двойные рамы, вентиляций не оказалось. Печь не топилась.
– Вентиляций нет, – робко сказала княгиня.
– Странно… Гм… Лечи вот при таких условиях! Я лечить не стану!
И чуточку возвысив голос, Топорков прибавил:
– Несите его в зал! Там не так душно. Позовите людей!
Никифор бросился к кровати и стал у изголовья. Княгиня, краснея, что у нее, кроме Никифора, повара и полуслепой горничной, нет более прислуги, взялась за кровать. Маруся тоже взялась за кровать и потянула изо всех сил. Дряхлый старик и две слабые женщины с кряхтеньем подняли кровать и, не веря своим силам, спотыкаясь и боясь уронить, понесли. У княгини порвалось на плечах платье и что-то оторвалось в животе, у Маруси позеленело в глазах и страшно заболели руки, – так был тяжел Егорушка! А он, доктор медицины Топорков, важно шагал за кроватью и сердито морщился, что у него отнимают время на такие пустяки. И даже пальца не протянул, чтобы помочь дамам! Этакая скотина!..
Кровать поставили рядом с роялью. Топорков сбросил одеяло и, задавая княгине вопросы, принялся раздевать мечущегося Егорушку. Сорочка была сдернута в одну секунду.
– Вы покороче, пожалуйста! Это к делу не относится! – отчеканивал Топорков, слушая княгиню. – Лишние могут уйти отсюда!
Постучав молоточком по Егорушкиной груди, он перевернул больного на живот и опять постукал; с сопеньем выслушал (доктора всегда сопят, когда выслушивают) и констатировал неосложненную пьянственную горячку.
– Не мешает надеть горячечную рубаху, – сказал он своим ровным, отчеканивающим каждое слово, голосом.
Давши еще несколько советов, он написал рецепт и быстро пошел к двери. Когда он писал рецепт, он спросил, между прочим, фамилию Егорушки.
– Князь Приклонский, – сказала княгиня.
– Приклонский? – переспросил Топорков.
«Как же скоро ты забыл фамилию своих бывших… помещиков!» – подумала княгиня.
Слово «господ» княгиня не сумела подумать: фигура бывшего крепостного была слишком внушительна!
В передней она подошла к нему и с замиранием сердца спросила:
– Доктор, он не опасен?
– Я думаю.
– По вашему мнению, выздоровеет?
– Полагаю, – ответил холодно доктор и, слегка кивнув головой, пошел вниз по лестнице к своим лошадям, таким же статным и важным, как и он сам.
По уходе доктора княгиня и Маруся, впервые после суточного томления, свободно вздохнули. Знаменитость Топорков подал им надежду.
– Как он внимателен, как мил! – сказала княгиня, в душе благословляя всех докторов на свете. Матери любят медицину и верят в нее, когда больны их дети!
– Ва-а-ажный господин! – заметил Никифор, давно уже не видавший в барском доме никого, кроме забулдыг-кутил, товарищей Егорушки. Старикашке и не снилось, что этот важный господин был не кто иной, как тот самый запачканный Колька, которого ему не раз приходилось во время оно вытаскивать за ноги из-под водовозни и сечь.
Княгиня скрывала от него, что его племянник доктор.
Вечером, по заходе солнца, с изнемогшей от горя и усталости Марусей приключился вдруг сильный озноб; этот озноб свалил ее в постель. За ознобом последовали сильный жар и боль в боку. Всю ночь она пробредила и простонала:
– Я умираю, maman!
И Топоркову, приехавшему в десятом часу утра, пришлось лечить вместо одного двоих: князя Егорушку и Марусю. У Маруси нашел он воспаление легкого.
В доме князей Приклонских запахло смертью. Она, невидимая, но страшная, замелькала у изголовья двух кроватей, грозя ежеминутно старухе-княгине отнять у нее ее детей. Княгиня обезумела с отчаяния.
– Не знаю-с! – говорил ей Топорков. – Не могу я знать-с, я не пророк. Ясно будет через несколько дней.
Говорил он эти слова сухо, холодно и резал ими несчастную старуху. Хоть бы одно слово надежды! К довершению ее несчастья, Топорков почти ничего не прописывал больным, а занимался одними только постукиваниями, выслушиваниями и выговорами за то, что воздух не чист, компресс поставлен не на месте и не вовремя. А все эти новомодные штуки считала старуха ни к чему не ведущими пустяками. День и ночь не переставая слонялась она от одной кровати к другой, забыв всё на свете, давая обеты и молясь.
Горячку и воспаление легких считала она самыми смертельными болезнями, и, когда в мокроте Маруси показалась кровь, она вообразила, что у княжны «последний градус чахотки», и упала в обморок.
Можете же вообразить себе ее радость, когда княжна на седьмой день болезни улыбнулась и сказала:
– Я здорова.
На седьмой день очнулся и Егорушка. Молясь, как на полубога, смеясь от счастья и плача, княгиня подошла к приехавшему Топоркову и сказала:
– Я обязана вам, доктор, спасением моих детей! Благодарю!
– Что-с?
– Я обязана вам многим! Вы спасли моих детей!
– А… Седьмые сутки! Я ожидал на пятые. Впрочем, всё равно. Давать этот порошок утром и вечером. Компресс продолжать. Это тяжелое одеяло можно заменить более легким. Сыну давайте кислое питье. Завтра вечером заеду.
И знаменитость, кивнув головой, мерным, генеральским шагом зашагала к лестнице.
День ясный, прозрачный, слегка морозный, один из тех осенних дней, в которые охотно миришься и с холодом, и с сыростью, и с тяжелыми калошами. Воздух прозрачен до того, что виден клюв у галки, сидящей на самой высокой колокольне; он весь пропитан запахом осени. Выйдите вы на улицу, и ваши щеки покроются здоровым, широким румянцем, напоминающим хорошее крымское яблоко. Давно опавшие желтые листья, терпеливо ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце, испуская из себя лучи, как червонцы. Природа засыпает тихо, смирно. Ни ветра, ни звука. Она, неподвижная и немая, точно утомленная за весну и лето, нежится под греющими, ласкающими лучами солнца, и, глядя на этот начинающийся покой, вам самим хочется успокоиться…