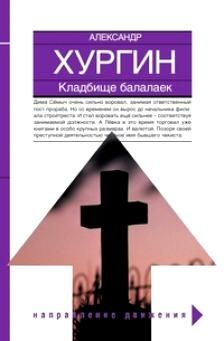Я-то вообще уверен, что не заслужил ничего подобного. И такого ко мне волнообразного отношения уж точно не заслужил. Я понимаю, что от любви до ненависти всего один шаг (интересно, а от ненависти до любви сколько?), но проживать свою жизнь, болтаясь в межшаговом, так сказать, пространстве, и даже не между любовью и ненавистью, а между тем, что тебя то терпят, то не терпят...
Нет, надо признать, что, когда плохо, когда случаются похороны или еще что, какое-нибудь горе луковое, без Лели не обойтись. Только не может же быть плохо всегда. Иногда все же бывают дни и минуты, когда не плохо, а более или менее хорошо. И тогда жить с ней, находиться в одном замкнутом малогабаритном пространстве и в одном, тоже, в общем, замкнутом времени невыносимо.
Но я все равно не хочу ее взять и убить. То есть я хочу. Но хочу так, умозрительно, не всерьез, почти понарошку, платонически. Да, иногда я думаю об этом, думаю, что убить Лелю было бы неплохим выходом. Для меня, для нее, для некоторых других людей. Многие, узнав о Лелиной безвременной смерти, погоревав и отскорбев положенное, вздохнули бы с облегчением. Ведь они освободились бы от Лели, от которой иначе освободиться невозможно. Невозможно, потому что она никого не держит и никого не заманивает в свои сети, все сами стремятся к ней прибиться, отдать ей свою свободу, свою какую-никакую индивидуальность и обособленность, свою любовь, душу, тело, и все остальные потроха - тоже вручить. На каком-то этапе Леля бывает очень притягательна. Для самых разных, неожиданных особей. Как мужского, так и женского пола. Нет, к однополой физической любви Леля не склонна и непричастна. Женщины ее любят в лучшем и высшем смысле этого слова, но так беззаветно и беззастенчиво, что лучше бы они с ней время от времени спали. Есть что-то неестественное в женской любви и преданности. Женщины не должны любить себе подобных. Они должны их недолюбливать. Должны находиться в состоянии соперничества - пусть несознательного, зато инстинктивного. Так им назначила природа. А природа, она, как известно, мать и многого не терпит. И лучше против природы не ходить, даже с рогатиной. Потому что тех, кто против природы ходит, она превращает в пустоту. Которой тоже не терпит. И заполняет. И восстанавливает естественным образом свои (а не наши) связи, но уже помимо нас, без нас. И если без человеческих связей жить все же как-то можно, то вне природных нам ничего не остается, как перестать быть частью природы, вернее, частью живой природы - то есть нам ничего не остается, разве что спокойно умереть.
Но никому не хочется умирать. Кроме больных, склонных к суицидальным порывам по нездоровью. Тем более не хочется умирать безвременно. А умерщвлять желающие, конечно, есть. Этих желающих хоть отбавляй, хоть сажай пожизненно, хоть составляй из них отдельный город, административную единицу, на каком-нибудь отшибе, у какого-нибудь черта на куличках или моря. И я, выходит, один из них, из желающих. Да, желание отнять жизнь у Лели во мне теплится подспудно. Пока не возгораясь. Но вдруг это только пока? И что будет после того, как пока перестанет быть пока?
Искать ответ на эти вопросы - пустая трата времени, то есть медленное, постепенное лишение себя жизни. С другой стороны, а что не пустая трата? Жизнь - категория уходящая. Ты чистишь зубы, а она именно в это время уходит. Так чистить зубы хотя бы полезно. А взять, допустим, бритье занятие совершенно бесполезное. Все равно сбритое отрастет, став еще гуще. А время на этот процесс теряется. И мне всегда жалко без толку терять время. А когда Леля на мой вопрос "ты куда?" отвечает "в парикмахерскую, побрить ноги", мне вообще становится плохо. Потому что объяснить Леле что-либо насчет пустой траты времени невозможно в принципе. Она уверена - время дано человеку, чтобы его тратить. Тратить так, как хочется, иначе оно все равно уйдет, без твоего участия, а это обидно и непрактично. Мы и так от времени целиком зависим и находимся у времени в плену, у времени за решеткой. Зачем же еще во времени томиться, как консервы в томате или в собственном соку?
Конечно, этим Лелиным принципам и жизненным кредо противопоставить что-либо существенное нелегко. Как отличить пустую трату от не пустой? Кто это может оценить? Видимо, только ты сам, и то постфактум и, как теперь говорят, оптом. Когда все время жизни пройдет и когда останется от него небольшой, совершенно незначительный остаток, только тогда ты сможешь определить - зря ты тратил свое время или не зря, впустую или нет. И если зря, то все равно ты не захочешь себе в этом признаться, потому что признаться в этом означает признаться в том, что жизнь твоя, пройдя, не состоялась, не сбылась и не удалась и ее могло не быть вовсе. А значит, ты спокойно мог бы не рождаться и не беспокоить маму, акушеров, воспитателей, учителей и так далее, далее и далее.
Вот еще один вопрос, на который ответить нельзя, сколько ни дуйся и ни суши мозги. Мог ты не родиться? Или не мог? И что было бы, если бы тебя не было? Не с какого-то момента, с момента твоего естественного или искусственного ухода из жизни, а никогда. Изменился бы, громко говоря, мир от этого твоего нерождения, твоего отсутствия и неучастия или не заметил бы его? И кому бы портила кровь Леля, с кем была бы все эти годы, кого выставляла и возвращала? А мама, отец? Чьими родителями были бы они? Родителями другого сына? Или дочери? Или ты бы не родился потому, что не встретились они? И их невстреча стала бы единственной, но вполне достаточной причиной твоего нерождения. А могли не встретиться и их родители, твои бабушки и дедушки, и родители бабушек и дедушек - тоже.
Нет, так можно далеко зайти и дойти до Адама и Евы. Которые не встретиться не имели ни малейшего шанса. Поэтому они нам и не интересны. У них не было выбора. У них не было даже права выбора. Несчастные, подневольные наши пращуры. Скорее всего, они даже не любили друг друга. А сошлись, как говорится, от одиночества вдвоем, на безрыбье. И на безрыбье родили детей. А давно доказано, что, если родить детей без любви, жизни им никакой не будет, и лучше бы им не рождаться совсем. Их дети это и доказали. Первыми.
Не знаю, как кто, а я, если бы не родился и не жил, больше всего жалел бы обо всем первом, о том, что случилось и произошло со мной впервые. Второй и все последующие разы можно и подарить, забыть, и пренебречь ими можно, не сожалея. А первые - жалко.
Я видел, как наш молодой кот Тишка выскочил по привычке на балкон и осел. Всеми четырьмя лапами и животом, и хвостом - в снег. И снег, первый в его жизни снег, ошеломил кота. Своей белизной и своим обжигающим холодом, холодом, которого никак невозможно было ожидать от такой белой и пушистой субстанции.
Меня тоже ошеломляли первые впечатления жизни - и в детстве, и в юности. Потом, правда, перестали. Даже первые. Но это, видимо, оттого, что их, первых впечатлений, фактически не осталось. И что бы ни случилось, что бы ни произошло, подумав, я всегда приходил к безрадостному умозаключению, что если не это в точности, то нечто похожее и подобное со мной уже случалось, происходило. Чуть не так, чуть не там, чуть не то. Но происходило. Другое дело, начало - старт и разгон жизни.
Грохот деревянных колес деревянной коляски. Коляска движется поперек досок щелястого бурого пола. И невозможно понять, что это за грохот, откуда этот дробный ритм, в котором подпрыгивает коляска и трясутся щеки. И требование - криком и плачем - катать коляску, катать еще. И слушать, и не понимать снова и снова - что же это так жутко дрожит, стучит и грохочет? И куда исчезает шум и дрожь, когда коляска едет не поперек досок, а вдоль?
И вид, открывшийся вдруг с дороги на нечто невозможно огромное, не охватное ни взглядом, ни умом, лежащее где-то далеко внизу, в синем, бликующем на солнце, тумане. И стоило увидеть это, как сразу забылись и отступили муки, которые, казалось, не забудутся никогда. Потому уже не забудутся, что никогда не прекратятся. Продвижение горячего, воняющего бензином "ЗИМа"-такси по извилистой дороге - потом, через много лет, выяснилось, что это была старая Крымская дорога, а новую тогда еще не построили - вправо, влево, вверх, верх, и опять поворот за поворотом, зигзаг за зигзагом. И я все чаще мычу плотно закрытым ртом "ма-а-а-а" - чтобы остановили машину, - и мучительно блюю через открытую дверь, наклоняясь к каменистой земле лицом, не ступая на нее, не выходя, через порог. И как только машина снова трогается, как только она набирает скорость и заходит на очередной вираж, мне опять становится плохо и дурно, и я сквозь тошноту ною, прошу, умоляю: "Мама, давай выйдем, я пешком пойду, ничего, что далеко, ничего, что в гору, я пойду, только давай выйдем, выйдем из этой черной машины".
И ощущение пальцами девичьего соска. Податливого, в пупырышках. И мягкой груди. У шестнадцатилетней девочки была мягкая грудь. И вся она была мягкая. Не толстая и не полная. А мягкая. Мягкие губы, мягкий взгляд сквозь очки, мягкая походка, мягкий голос, мягкое имя Оля. Все мягкое. И твердое, чуть ли не злое "нет", когда я позволял себе лишнее или то, что казалось ей лишним. Она не говорила общепринятое "не надо", она говорила "нет". И возвращала мою ладонь к себе на грудь. Это, по ее понятиям, было можно. И наверное, наверняка ей нравилось, доставляло удовольствие...