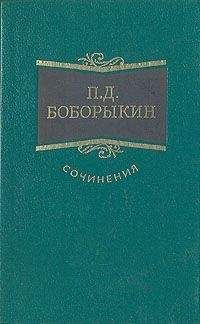Вечер провел он в театре, в одном из частных театров, где то, что давали на сцене, казалось ему тусклою и тягучею повестью в лицах, с неизбежным пьяным разночинцем, говорящим грубости во имя какой-то правды. Публика возмущала его еще больше пьесы и актеров. Она смеялась от пошлых острот и кривляний актеров, вызывала бестактно и бесцеремонно, после каждого ухода, своих любимцев; в антрактах шаталась по фойе, поглощала водку, курила так, что из буфета дым проникал в коридоры и ходил густыми волнами. К концу спектакля что-то донельзя ординарное, грубое и глупое начало душить его. Он почти с ужасом спрашивал себя в антрактах: «Неужели я мог бы скоротать свой век среди такой культуры, не будь у меня средств жить, где я хочу?»
А ведь это могло очень и очень случиться. Вон его товарищ Лебедянцев прокоптел же двадцать с лишком лет в этой Москве!
И теперь, лежа на турецком диване под своим дорожным одеялом, Вадим Петрович и во рту ощущал горечь от вчерашнего дня, в особенности от театра с его фойе, буфетом и курилкой. Никогда и нигде публичное место так не оскорбляло его своим бытовым букетом.
Он позвонил в колокольчик, стоявший на табурете. Ему прислуживал дворник, добродушный и глуповатый малый, по имени Капитон, ходивший неизменно в пестрой вязаной фуфайке и в коротком пальто, которое он совершенно серьезно называл «спинжак».
И Стягину это слово казалось символическим. Он находил, что «спинжак» царит по всей этой Москве, да и всюду, по всему его отечеству. Спинжак и смазные сапоги, косой ворот или вязаная фуфайка, гармоника и сороковушка водки, зубоскальство, ругань, бесплодное умничанье, нахальное обличенье всего, на что позволено плевать, и никакого серьезного отпора, никакого чувства достоинства, желания и возможности отстоять какое-нибудь свое право.
Красное, круглое лицо Капитона, обросшее на щеках и подбородке скорее пухом, чем волосами, показалось в дверях.
— Тепло на дворе?
— Не дюже, Вадим Петрович, а припекает солнышко.
— Подай мне газеты и завари чай! Я буду пить в постели.
— Сию минуту.
От смазных сапог Капитона пахло ворванью. Этот запах преследовал Стягина повсюду и даже не покидал его обонятельных нервов там, где он не видел сапог. Но у Капитона другой обуви не было.
Дворник принес сначала газеты и сказал, кашлянув в руку:
— Левонтий Наумыч пришли… Когда прикажете позвать?.. Они там, в передней.
— Пусть подождет.
— Слушаю-с.
Левонтий — старый дворецкий его родителей, бывший одно время его дядькой. Теперь он в одной из московских богаделен, куда Вадим Петрович поместил его лет пять тому назад.
Газеты, поданные Капитаном, произвели в Вадиме Петровиче новый наплыв раздражения. Он стал просматривать пестро напечатанные столбцы одного из местных листков и на него пахнуло с них точно из подворотен где-нибудь в Зарядье или на Живодерке. Тон полемики, остроумие, задор нечистоплотных сплетен, липкая пошлость всего содержимого вызвали в нем тошноту и усилили головную боль.
— Этакая мерзость! — вскричал он и бросил газетный листок на ковер. — Что это за город! Что это за люди, что за троглодиты! — громко докончил он и сильно позвонил.
Показались опять красные щеки Капитона с белокурым пухом вокруг подбородка.
— Позови Левонтия.
— Слушаю-с.
Вадим Петрович знал вперед, что Левонтий будет жаловаться на свое богаделенное житье и что ему надо будет дать пятирублевую ассигнацию. Когда-то он любил его говор и весь тон его речи, отзывавшейся старым бытом дворовых; находил в нем даже известного рода личное достоинство, вспоминал разные случаи из своего детства, когда Левонтий был приставлен к нему. До сих пор он, полушутливо, не иначе зовет его, как «Левонтий Наумыч».
— Батюшка, Вадим Петрович! — раздался уже шамкающий голос Левонтия.
Он вошел в дверь неслышными шагами, точно будто на нем были туфли или валенки. Старик, среднего роста, смотрел еще довольно бодро, брился, но волосы, густые и курчавые, получили желтоватый отлив большой старости. На нем просторно сидело длинное пальто, вроде халата, опрятное, и шея была повязана белым платком.
— Здравствуйте, Левонтий Наумыч! — приветствовал его Стягин и поднялся с постели.
— Ручку пожалуйте!
Левонтий скорыми шагами устремился к руке, но Вадим Петрович не допустил его до этого.
— Как поживаете, Левонтий Наумыч? Книжки божественные почитываете? Чаек попиваете?
Побалагурить со стариком по-прежнему Вадиму Петровичу не захотелось. Левонтий сразу напомнил ему, как много ушло времени, сколько ему самому лет и как эта Москва полна для него покойников. И без того вчера, проходя по Молчановке, он насчитал целых пять домов, для него выморочных. Все в них перемерли, и теперь живут там какие-нибудь «обыватели», — слово, принимавшее в его устах особенно презрительную интонацию.
Так точно и Левонтий, с его запахом лампадного масла не то от волос, не то от его балахона, обдавал его кладбищем.
— Надолго ли, батюшка? — шамкал Левонтий, наклоняясь над ним.
— Да как дела. Хочу покончить со всем.
— Как, батюшка?.. Виноват… на одно-то ухо туговат стал я.
— Приехал все продать, — выговорил громко Вадим Петрович, и ему точно захотелось нанести старику чувствительную неприятность, сообщить ему об этом бесповоротном решении — ликвидировать и распрощаться с родиной.
— Дом изволите продавать?
Вопрос Левонтия вылетел почти с испуганным вздохом.
— И дом, и деревню, если хороший покупщик найдется.
— И вотчину?.. Батюшка!.. Как же это возможно!..
Глаза старика сразу покраснели, и две слезы покатились из них по розоватой, точно восковой щеке.
— Затем и приехал, — все так же громко и как бы злорадно повторил Стягин.
— Господи!
«Разрюмится старикашка, — проворчал про себя Вадим Петрович, — и пойдет причитывать!»
— Нечего делать, Левонтий Наумыч, такие у вас порядки, что зря, без всякого смыслу, только разоряешься… Цен ни на что нет, дом пустой стоит, бумажки ваши скоро до четвертака дойдут… Слышали об этом?
— Ох ты, господи!.. Это точно, батюшка, все в умаление пришло… Скудость!.. А все-таки… дом продать… Папенька-маменька… дяденькабабенька — все жили… Опять же вотчина… усадьба… ранжереи, ананасницы…
— Вот что вспомнил!.. От ананасов теперь и навоза-то не осталось…
— Вотчина — дедина, — продолжал старик тоном тихого причитания, от которого Стягину делалось еще тошнее.
— Мало ли что! — почти гневно вскрикнул он.
Левонтий отошел смиренно к двери.
Дверь шумно растворилась.
— Лебедянцев!.. Ты, брат?.. — удивленно окликнул Вадим Петрович.
Он не столько обрадовался приятелю, сколько удивился, что тот нашел его. После вчерашней неудачи с отыскиванием его переулка и дома Стягин хотел сегодня утром посылать за справкой в адресный стол.
— Небось удивлен, что я первый тебя нашел?.. Хе-хе!
Лебедянцев — небольшого роста, блондин, с жидкою порослью на сдавленном черепе, в очках, с носом в виде пуговки и с окладистою бородой, очень небрежно одетый, засмеялся высоким, скрипучим смехом.
— Здравствуйте, Левонтий… как, бишь, по батюшке?.. — обратился он тотчас же к старику.
— Наумыч, батюшка, Наумыч… Покорно благодарствую… Скриплю-с, грешным делом, скриплю-с.
— Крепись, старче, до свадьбы доживешь!.. Ну, ты, Вадим Петрович, хорош… нечего сказать. Чтобы черкнуть словечко из Парижа или хоть бы депешу прислал с дороги!
— Да я адрес твой затерял, — оправдывался с гримасой Стягин. — Ваши московские дурацкие переулки…
— Нечего, брат!.. Ну, поздороваемся хоть! Вот физикус-то? Все кряхтит да морщится.
— Позволь, позволь, я еще не умыт!
— Экая важность!
Приятель звонко поцеловал его два раза.
— Да как же ты-то узнал о моем приезде? — все еще полунедовольно спросил Стягин.
— Видел тебя вчера издали… Кричу… на Знаменке это было… ты не слышишь, лупишь себе вниз и палкой размахиваешь… Другой такой походочки нет во всей империи… Вот я и объявился… Заехал бы вчера, да занят был до поздней ночи.
Тон Лебедянцева в этот раз ужасно коробил Вадима Петровича.
«Как охамился!» — подумал он и собрался вставать с постели.
— Левонтий Наумыч, подождите там, в передней.
— Слушаю-с, батюшка… Да вам не угодно ли чего?.. Умыться подать? Я с моим удовольствием…
— Нет, не надо.
Старик тихонько выполз из полуотворенной двери.
— Умываться по-прежнему будешь? — задорно и как-то прыская носом спрашивал Лебедянцев, ходя быстро и угловато перед глазами Вадима Петровича.
— Послушай, Дмитрий Семеныч, — остановил его Стягин, — не арпантируй ты так комнату.
— Что?
Лебедянцев расхохотался.
— Повтори!.. Как ты сказал… арпан… арпанти… Это по-каковски?