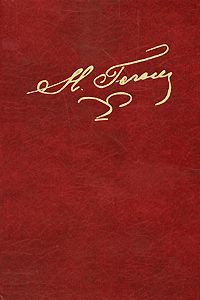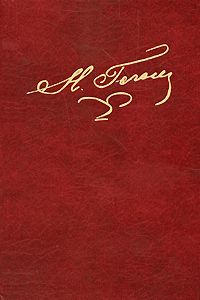Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как, откуда ни возьмись, шестилетний брат Пидоркин, Ивась, прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «тятя, тятя! не бей Петруся!» Что прикажешь делать? у отца сердце не каменное; повесивши нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты: «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате, или хоть только под окнами, то слушай, Петро: ей-богу, пропадут черные усы, да и оселедец твой, вот уже он два раза обматывается около уха, не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоею макушей!» Сказавши это, дал он ему легонькою рукою стусана в затылок, так что Петрусь, не взвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались! Взяла кручина наших голубков; а тут и слух по селу, что к Коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, с шпорами, с карманами, бренчавшими, как звонок от мешочка, с которым понамарь наш, Тарас, отправляется каждый день по церкве. Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот, один раз, Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: «Ивасю мой милой, Ивасю мой любой! беги к Петрусю, мое золотое дитя, как стрела из лука; расскажи ему все: любила б его карие очи, целовала бы его белое личико, да не велит судьба моя. Не один рушник вымочила горючими слезами. Тошно мне. Тяжело на сердце. И родной отец — враг мне: неволит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе; будут дьяки петь, вместо кобз и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим; понесут меня. Темная, темная моя будет хата: из кленового дерева, и, вместо трубы, крест будет стоять на крыше!»
Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи. «А я думал, несчастный, идти в Крым и Туречину, навоевать золота и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка! будет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той свадьбе; ворон черный прокрячет, вместо попа, надо мною; гладкое поле будет моя хата; сизая туча — моя крыша; орел выклюет мои карие очи; вымоют дожди козацкие косточки, и вихорь высушит их. Но что я? на кого? кому жаловаться? Так уже, видно, Бог велел — пропадать, так пропадать!» — да прямехонько и побрел в шинок.
Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда добрый человек идет к заутрене, и выпучила на него глаза, как будто спросонья, когда потребовал он кухоль сивухи, мало не с полведра. Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинул от себя кухоль на землю. «Полно горевать тебе, козак!» — загремело что-то басом над ним. Оглянулся: Басаврюк! у! какая образина! Волосы — щетина, очи — как у вола! «Знаю, чего недостает тебе: вот чего!» Тут брякнул он с бесовскою усмешкою кожаным, висевшим у него возле пояса, кошельком. Вздрогнул Петро. «Ге, ге, ге! да как горит! — заревел он, пересыпая на руку червонцы, — ге, ге, ге! да как звенит! А ведь и дела только одного потребую за целую гору таких цяцек». — «Дьявол! — закричал Петро. — Давай его! на все готов!» Хлопнули по рукам. «Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай! Я тебя буду ждать, о полночи, в Медвежьем овраге».
Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дела, что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, и что далее, тем нетерпеливей. Экая долгота! видно, день Божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет. Небо только краснеет на одной стороне. И оно уже тускнет. В поле становится холодней. Примеркает, примеркает и — смерклось. Насилу! С сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Басаврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро: никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и Басаврюк. «Видишь ли ты, стоят перед тобою три пригорка. Много будет на них цветов разных; но сохрани тебя нездешняя сила, вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, что бы тебе позади ни чудилось». Петро хотел было спросить… глядь — и нет уже его. Подошел к трем пригоркам; где же цветы? Ничего не видать. Дикой бурьян чернел кругом и глушил все своею густотою. Но вот блеснула на небе зарница, и перед ним показалась целая гряда цветов, все чудных, все невиданных; тут же и простые листья папоротника. Поусумнился Петро и раздумно стал перед ними, подпершись обеими руками в боки. Что тут за невидальщина? десять раз на день, случается, видишь это зелье; какое ж тут диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться? Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле чудно! Движется и становится все больше, больше, и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя. «Теперь пора!» — подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук также к цветку, а позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим Басаврюк, весь синий, как мертвец. Хоть бы пошевелился одним пальцем. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; рот в половину разинут, и ни ответа. Вокруг не шелохнет. Ух, страшно!.. Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики; деревья загремели сыпучею бранью… Лицо Басаврюка вдруг ожило; очи сверкнули. «Насилу воротилась, яга! — проворчал он сквозь зубы. — Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица: делай все, что ни прикажет, не то пропал навеки!» Тут разделил он суковатою палкою куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, оборотившись в кошку, кинулась в глаза им. «Не бесись, не бесись, старая чертовка!» — проговорил Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь, вместо кошки, старуха с лицом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу; нос с подбородком словно щипцы, которыми щелкают орехи. «Славная красавица!» — подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, вспрыскивая какою-то водою. Искры посыпались у ней изо рта; пена показалась на губах. «Бросай!» — сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил, и, что за чудо? цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака и, словно лодка, плавал по воздуху; наконец, потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна. «Здесь!» — глухо прохрипела старуха; а Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил: «Копай здесь, Петро. Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни Коржу не снилось». — Петро, поплевав в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю, в другой, в третий, еще раз… что-то твердое!.. Заступ звенит и нейдет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой, окованный железом, сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже; а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипеньем. «Нет, не видать тебе золота, покаместь не достанешь крови человеческой!» — сказала ведьма и подвела к нему дитя, лет шести, накрытое белою простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петро. Малость, отрезать ни за что, ни про что человеку голову, да еще и безвинному ребенку! В сердцах, сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стоял Ивась. И ручонки сложило бедное дитя накрест; и головку повесило… Как бешеный, подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку… «А что ты обещал за девушку?..» — грянул Басаврюк, и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою: синее пламя выхватилось из земли; середина ее вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита; и все, что ни было под землею, сделалось видимо, как на ладони. Червонцы, дорогие камни, в сундуках, в котлах, грудами были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его загорелись… ум помутился… Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи… Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками за обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь… Все пошло кругом в голове его! Собравши все силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Деревья все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало… Огненные пятна, что молнии, мерещились ему в глаза. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачужку и, как сноп, повалился на землю. Мертвый сон охватил его.