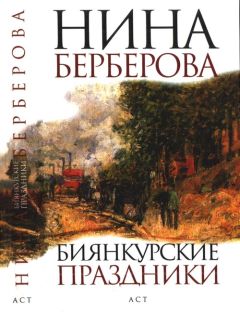В гастрономическом магазине Пышмана выставлены консервы Киевского пищетреста: баклажанная икра, фаршированный перец. В магазине - водки и наливки всех сортов, тянучки "Москва", пирожки "филипповские" и в углу, на полке, иконы и деревянные раскрашенные ложки. Мадам Пышман сидит за кассой. Она бывает ежегодно на балах русской прессы, всегда жертвует на буфет либо пирог с капустой, либо заливное из рыбы. Международное положение ее волнует. Она вздыхает и говорит:
- Что делает Сталин? Он убивает, и убивает, и убивает. Что делает Гитлер? Он проходит университет. Он учится убивать. Он скоро получит диплом. И неужели не придет какой-нибудь новый Иисус Христос, чтобы остановить все это?
Я чувствую, что в ее глазах "старый" Иисус Христос как-то скомпрометирован.
В придачу к покупке мадам Пышман дает мне тянучку: она говорит, что любит меня за то, что я занимаюсь "литературным трудом" и "художественной деятельностью", и что она, когда продает мне продукты, чувствует, что она сама тоже отчасти причастна "литературно-художест-венной деятельности". Ее муж выходит из заднего помещения. Он улыбается и кивает мне, но сказать ничего не может: он предпочитает улыбаться и молчать, потому что он глух: Петлюра отбил у него слух в погроме.
Есть привычные фигуры: на фоне этих улиц, где-то между почтовым отделением и заводом, они двигаются днем и ночью (или это только так кажется?), словно делают круги, попадаясь мне ежедневно на глаза. Это нищий, у которого грудь колесом и которого пугаются французские дети, потому что у него низкий бас, какого здесь никто никогда не слышал. Он ходит и поет церковное. Ночует он в Армии Спасения, днем пристанища не имеет. Два раза в год он моется (на рождество и на пасху) и тогда поет в хоре в одной из биянкурских церквей и в "Верую", говорят, дает такое "фа", что дрожит красная лампочка над иконостасом, изображающая лампадку. Потом мадемуазель Фурро, ее все знают. Она - председательница Общества бывших француженок. Так называется странный "профсоюз", в котором членами состоят бывшие гувернантки, вернувшиеся после русской революции домой в Париж. В Париже они никого не нашли, сбережения их в России из царских рублей они перевели в заем свободы и потеряли их, а главное - Парижа такого, какой они знали, они не нашли, и после того, как две из них покончили с собой в тоске по России и "прелестной жични, которая была, как один сладкий, незабываемый, прекрасный мираж" (как выразилась однажды при мне мадемуазель Фурро), они решили соединиться в общество и поддерживать друг друга. Их к концу тридцатых годов оставалось не более шести-семи, но мадемуазель Фурро все еще бегала по Биянкуру на своих коротких толстых ножках, пока в бомбежке 1942 года не окончила свою жизнь.
В госпиталях русские доктора не имели права работать, но старый доктор Серов ходил в Отель Дье ежедневно и даже по воскресеньям дежурил - среди санитаров и санитарок, пускавших граммофоны во всю силу и танцевавших так, что весь госпиталь дрожал. Жил Серов частной практикой (незаконной), а в госпитале работал "по страсти", все время боясь, что кто-нибудь донесет на него и его засудят. Одно время особенно много ему приходилось иметь дело с прокаженными. К ним ходили и другие "незаконные" русские: один одержимый, раздававший Евангелие прокаженным - русским и нерусским (русских там было 2-3 человека в самый разгар "русского засилья" Парижа) и толковавший им Нагорную проповедь, а другой - из монахов, видимо, потому что гулял в старом заплатанном подряснике и потерявшей цвет и форму камила-вке; этот ничего не раздавал и ничего не толковал, он развлекал больных выздоравливающих и умирающих - и исполнял кое-какие их поручения, а короче - путался под ногами админист-рации, так что, когда его задержали и оштрафовали, он вдруг исчез и только много позже (может быть, отсидев в тюрьме за невозможностью уплатить штраф?) появился - перед самой войной - в тюрьмах, где шнырял до самого 1944 года между французскими и немецкими полицейски-ми, пока его не прихлопнуло гестапо.
Преступность была, но она была незначительна. Тем не менее были случаи убийства (из ревности) - два, убийства с целью получить наследство - одно, кражи со взломом - одна, обыкновенного воровства - девятнадцать, относительно крупного мошенничества - четыре, двоеженства - четыре, и так далее. Все это за тридцать лет среди населения в семьдесят пять восемьдесят тысяч. Эта статистика приблизительна и, конечно, только среди тех, кто попался. Я знала двух русских (профессиональных, не случайных) сутенеров и несколько уличных женщин, они, собственно, работали не на улице: пять из них состояли при ночных ресторанах, и прибли-зительно столько же можно было насчитать в публичных домах (которые были закрыты законом во второй половине тридцатых годов). О тех, кто полупроституировал себя, я не говорю, равно как и о тех, кто незаконно торговал валютой, хранил краденое или продавал наркотики и презервативы (тогда запрещенные).
Здание суда, в самом центре Ситэ, было одно время местом, которое я хорошо знала: залы, где судили мелких преступников, подравшихся консьержек или матроса, запустившего в уличный фонарь бутылкой, и другие, где шли сложные гражданские процессы, и наконец - где присяжные судили убийц, которым могла грозить гильотина.
Смесь ужаса и скуки не такая уж редкая смесь. Вот в эту минуту холод бежит по волосам и спинной хребет пронзает от затылка вниз ледяная игла, а в следующую - повисаешь глазами на стрелке часов над головой председателя суда и видишь, какая пыль лежит на весах бронзовой слепой Фемиды. Пыль, и неподвижная стрелка часов, и не меняющийся свет за окнами: зимний, как в десять часов утра, так и в четыре часа дня, - все тот же дождик, все те же облака бегут над берегом свинцовой Сены, и декорация красных мантий, усов, очков, рук, обручальных колец, галстуков, сапог, револьверов полицейских все это "чиновничье", не мое, казенное, вечное, всюдышное, идущее по расписанию, как поезд в плоской местности, по расписанию, хранящемуся в толстой папке, тоже покрытой пылью. Скука. Одурь скуки. И внезапный ужас: что они делают с ним (или с ней)? что мы все здесь делаем? Момент решения человеческой судьбы, и мы присутствуем на скамьях прессы при том ужасе. Мы содействуем ему! Адвокаты летают туда и сюда, с умными лицами, как бабочки, у каждого на устах острое словцо, у адвокаток такие умные глаза, такие очаровательные задумчивые улыбки, они как стрекозы над озером. Все это шутка, все что сцена, театр - пока нет приговора. Смесь чуть-чуть скучного театра (ничего не меняется, даже пыль не стирается!) и холодной дрожи. Смесь железнодорож-ной одури и последнего действия "Эдипа".
Да, кажется, что все, и даже преступник, играют роль, что по все "не в самом деле". Почему? Может быть, потому, что есть правила игры и ничего не спонтанно, может быть, потому, что у входа на места для публики проверяют билеты, а те, кто без билета, стиснуты, как в "райке", перилами. Можем быть, потому, что все расчислено заранее, когда заговорить этому, когда загреметь тому, когда не смочь сдержаться третьему или оборвать, или прервать, перекричать на все есть правила. В отдалении за загородкой на дубовой скамье сидит истерик, заколовший свою любовницу ножницами. Он учился в Новочеркасском кадетском корпусе, в кавалерийской школе, документ его в порядке: он шофер-ночник, он теперь ждет, что будет. Он ничего не может ни мыслить, ни решать, ни встать, ни уйти, ни сказать, ни заорать он может только ждать приговора, слушая председателя. В другой раз на той же скамье сидит одутловатая, в красных пятнах женщина с желтыми волосами и смотрит прямо на меня. Она стреляла в своего любовника. Я ее знаю. Когда ей было шестнадцать лет, ее одевали под девочку, у нее были голубые глаза. Как она надоела своему любовнику! Он, должно быть, решил бросить ее... Теперь она сидит неподвижно и всецело принадлежит пьесе, которая разыгрывается перед публикой: она встает, когда надо встать, говорит, когда надо отвечать. А в зале играют слова, умные, остроумные, всякие - каким полагается быть в театре.
И вот я опять сижу на тех же местах в этом зале и слушаю вранье Надежды Плевицкой, жены генерала Скоблина, похитившего председателя Общевоинского союза ("рюсс блан") генерала Миллера. Она одета монашкой, она подпирает щеку кулаком и объясняет переводчику, что "охти мне, труднехонько нонече да заприпомнить, чтой-то говорили об этом деле, только где уж мне, бабе, было понять-то их, образованных грамотеев". На самом деле она вполне сносно говорит по-французски, но она играет роль, и адвокат ее тоже играет роль, когда старается вызволить ее, - но ей дают пятнадцать лет тюремного заключения. А где же сам Скоблин? Говорят, он давно расстрелян в России. И от того ужас и скука, как два камня, ложатся на меня. Через десять лет после смерти Плевицкой в тюрьме Рокетт - ее адвокат скажет мне, что она вызвала его перед смертью в тюрьму и призналась ему во всем, то есть что она в похищении Миллера была соучастницей мужа. Куда бежать от этих игр, шуток и тайн, от центральной фигуры, не могущей встать и сойти с полотна картины, шагнуть в серое парижское небо, по которому идут трамваи, в вечернюю глубь освобождения и одиночества?