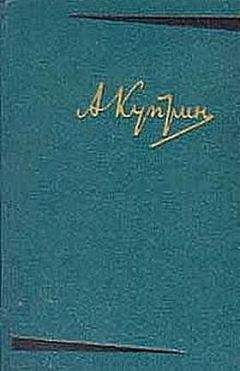Иногда актеры вспоминали и свои собственные театральные приключения. Михаленко называл это «кислыми рассказами из прежней жизни». И сами не замечая, они передавали один и тот же эпизод по нескольку раз, в одних и тех же выражениях, с одинаковыми жестами и интонациями; даже цеплялись у них анекдоты и кислые рассказы один за другой все в том же порядке, по одним и тем же ассоциациям мыслей. От этого часто случалось, что, проговорив час или два подряд, актеры вдруг ощущали вместе с усталостью и скукой чувство нестерпимого отвращения к самим себе и к своим сожителям.
Для них не было ничего святого. Все они, не переставая, богохульствовали, и даже полумертвый дедушка любил рассказывать очень длинный и запутанный анекдот, где Авраам и три странника у дуба Мамврийского играли в карты и совершали разные неприличные вещи. Но по ночам, во время тоскливой старческой бессонницы, когда так назойливо лезли в голову мысли о бестолково прожженной жизни, о собственном немощном одиночестве, о близкой смерти, — актеры горячо и трусливо веровали в бога, и в ангелов-хранителей, и в святых чудотворцев, и крестились тайком под одеялом, и шептали дикие, импровизированные молитвы. Утром вместе с ночными страхами проходила и вера. Один только Стаканыч был сдержаннее и последовательнее других. Он даже пробовал кое-когда, вставши с постели, торопливо, украдкой, креститься на образ, но каждый раз ему мешал Михаленко, который, стоя за ним, шутовски кланялся, размахивал правой рукой, как будто в ней было кадило, и хриплым дьячковским басом вытягивал:
— Паки и паки, съели попа собаки, если бы не дьячки, разорвали бы в клочки…
В два часа актеры обедали и за обедом неизменно ругали непечатной бранью основателя убежища купца 1-й гильдии Овсянникова. Прислуживал им все тот же солдат Тихон; его огорчало, что господа говорят за столом гадости, и иногда он пробовал остановить Михаленку, который был на язык невоздержаннее прочих:
— Не выражались бы вы, господин Михаленко. Кажется, образованный человек, а такие последние слова за хлебом-солью… Совсем даже некрасиво.
После обеда актеры спали тяжелым, нездоровым сном, с храпеньем и стонами, спали очень долго, часа по четыре, и просыпались только к вечернему чаю, с налитыми кровью глазами, со скверным вкусом во рту, с шумом в ушах и с вялым телом. Во время сна они отлеживали себе руки, ноги и даже головы и, вставши с кроватей, шатались, как пьяные, и долго не могли сообразить, утро теперь или вечер. После чая опять лежали, курили и рассказывали анекдоты. Часто играли в карты, — в пикет и в шестьдесят шесть, — и непременно на деньги, а проигрыш приписывали к старым карточным долгам, которые иногда достигали десятков тысяч рублей. Удивительнее всего было то, что все они не переставали верить в свое будущее: пройдет сама собою болезнь, подвернется ангажемент, найдутся старые товарищи, и опять начнется веселая, пряная актерская жизнь. Поэтому-то они и хранили, как святыню, в глубине своих спальных шкафчиков старые афиши и газетные вырезки, на которых стояли их имена.
В восемь часов подавали ужин, состоявший из разогретых остатков от обеда. Тотчас же после ужина актеры раздевались и укладывались спать. Но засыпали не скоро. Долго все пятеро ворочались на своих кроватях, и это было самое мучительное время суток. Сильнее давали о себе знать старые, запущенные болезни, нельзя было отогнать печальных и ядовитых мыслей о прошлом, оскорбительнее чувствовалось убожество настоящей жизни. Но страшнее всего было думать о том, что, быть может, один из соседей тихо, незаметно ни для кого, уже умер среди этой ночи и будет лежать до самого утра, молчаливый, таинственный, ужасный. И актеры по нескольку раз в ночь окликали друг друга, спрашивая дрожащими и кроткими голосами, который час, или прося одолжить спичку. И долго, долго, до раннего света, слышались в большой комнате, вместе с треском рассыхающегося паркета, старческие вздохи, невнятный бред, глухое покашливание и торопливый шепот…
И так тянулось изо дня в день серое, мелочное существование этих людей, когда-то жадно объедавшихся жизнью. Приятно разнообразилось оно хождением в город, но это удовольствие было сравнительно очень редким, потому что деньги почти никогда не водились в убежище, а без денег не стоило и выходить за ворота. Без денег нельзя было ни купить табаку, ни прокатиться на извозчике, ни зайти к дешевой раскрашенной проститутке, ни посидеть часок-другой в излюбленном ресторане, который более всего притягивает к себе бродяжнические вкусы старых актеров.
Четырнадцатого сентября, в праздник воздвижения, в убежище остались только двое жильцов: суфлер Стаканыч и дедушка. Остальные ушли с утра в город. Михаленко принимал участие в каком-то утреннем спектакле (он время от времени добивался для себя таких приглашений от бывших товарищей по сцене). Поэтому он еще за два дня начал низко и без всякой меры льстить Лидину-Байдарову, превознося его замечательный голос и поразительные успехи у женщин, и в конце концов выпросил у опереточного премьера бумажный воротничок и манжеты, бывшие всего раз в употреблении, а также красный заношенный до лоска галстук. Сам Байдаров по большим праздникам ходил обедать в знакомое купеческое семейство, где его снабжали кое-каким застиранным и перештопанным бельишком, папиросами, мелкими деньгами и кирпичным чаем. Впрочем, эти унизительные подробности своих праздничных визитов он скрывал от товарищей, отчасти из боязни насмешек, а отчасти из скупости, так как он очень не любил, если у него просили взаймы. Что касается Славянова-Райского, то он накануне получил субсидию из театрального фонда и теперь отправился в город с единственной целью — провести весь день в излюбленном трактирчике, носившем библейское название «Капернаум», и вернуться в убежище совершенно пьяным.
Дедушка лежал, сложив на животе и сцепив одну с другой большие исхудалые руки с коричневой кожей и резко выступающими наружу костяшками. Весь белый, с белыми волосами, неподвижный и благообразный, он теперь более чем когда-либо походил на святого старца, готовящегося к праведной кончине. Его бледно-серые, выцветшие глаза были упорно устремлены в широкое венецианское окно, где на густой осенней синеве неба медленно раскачивалась, вся озаренная солнцем, золотая круглая верхушка липы. Даже здесь, в душной, пропитанной тяжелым запахом комнате, чувствовалось, что там, за окном, стоит бодрый и холодный осенний день, сияет яркое, но негреющее солнце и тянет крепким ароматом увядающего листа.
Стаканыч, сидя на кровати по-турецки, раскладывал на одеяле старыми, почерневшими и распухшими от времени картами один из самых длинных своих пасьянсов — «двенадцать спящих дев», который он, из уважения к его сложности и числовому наименованию, раскладывал только по двунадесятым праздникам. Вид у Стаканыча был сосредоточенный. Он то подымал вверх брови, морща дряблую кожу на лбу в длинные, волнообразные складки, то опускал их вниз и сдвигал вместе, отчего над переносьем появлялась короткая, прямая, озабоченная морщинка. Когда же он муслил во рту палец, чтобы взять с колоды карту, от которой пахло стекольной замазкой, и в то же время задумчиво пробегал прищуренными глазами пасьянс, то его губы круглились, как будто он собирался свистать.
— Иван Степаныч, — поди-ка, братец, ко мне, — позвал вдруг дедушка своим тонким старческим голосом.
— А? Ты меня, что ли, дедушка? — обернулся суфлер.
— Поди, говорю, на минуточку. Поговорить хочу.
— Сейчас, сейчас, дедушка, дай только ряд докончу. Ну, вот и вся недолга.
Стаканыч перешел на кровать дедушки и уселся у него в ногах. Старик опять посмотрел в окно на густое, синее, спокойное небо, потом пошевелил сложенными на животе пальцами и длинно вздохнул.
— Ну что, дедушка, скажешь? — осторожно спросил Стаканыч, слегка похлопывая старика по большой ступне, которая горбом выпячивалась под одеялом.
— Вот что, Стаканыч… — дедушка перевел глаза на суфлера, но глядел на него так равнодушно, как будто бы разглядывал что-то сквозь него. — Вот какую я тебе историю скажу. Видел я сегодня во сне Машутку, свою внучку… Есть, брат, у меня такая внучка в Ростове-на-Дону, Марьей ее зовут. Она портниха…
— Портниха? — озабоченно спросил Стаканыч. — Портних видеть — не знаю, что значит. А вот иголку с ниткой или вообще шить что-нибудь — это непременно к дороге…
— К дороге так к дороге. Оно так, пожалуй, и выходит, что к дальней дороге… Но очень бы мне хотелось ее еще раз повидать, перед тем как закончу земные гастроли.
— Что кончу? — переспросил Стаканыч, приставив ладонь рупором к уху.
— Абер глупости… ничего. — У дедушки было любимое словцо «абер», которое он без нужды совал в свою речь. — Потом глядел я все на небо. Осень теперь, Стаканыч, и воздух на дворе как вино… Прежде, бывало, в такие ядреные дни все куда-то тянуло… на месте не усидишь… Бывало, нюхаешь, нюхаешь воздух, да ни с того ни с сего и закатишь из Ярославля в Одессу.