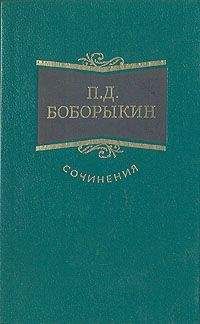— Какая-то! Я с таким определением не согласен, Лидия Кирилловна.
— Ах ты, Господи! — она вся всколыхнулась, — да вы не на заседании суда, вы не заключение даете.
— Нет-с, заключение. Вы хотели потолковать со мною по душе, значит, выслушать мое дружеское мнение… А то из-за чего же бы вы стали говорить?.. Чтобы заявить, что, мол, так-то и так-то я поступаю и желаю дальше поступать. Только для констатирования факта, как у нас курьер один выражается?
— Крупинский! Я так не хочу! — в голосе девушки задрожали нервные звуки. — Это слишком серьезно!..
— А я не серьезно говорю.
— Вы только придираетесь.
— Почему?
Крупинский немного приподнялся и прислонил спину к бревну. Лицо свое он держал вполоборота. Усмешка не сходила с его толстоватых губ; но взгляд был совсем не веселый; искреннее настроение сквозило в выражении его ущемленных умных глаз.
— С какой стати вы пристегнули ту?
— Жену? Вам это слово, Лидия Кирилловна, точно поперек горла стало… Нехорошо-с!
— Без прописей, пожалуйста!
— Не хорошо, повторю я, друг мой — не хорошо! Вы будете говорить, что я "приказный с прописью", но я возьму пример из сферы гражданского права. Вы желаете вступить с господином Икс в формальный договор…
— Сейчас и договор!..
— А то как же? — Крупинский резко обернулся к ней всем туловищем. — Да что же мы, дети с вами или полоумные?.. Извините меня! Как же не договор? Положим, он у нас не перед нотариусом и не перед господином мэром заключается; но ведь если вы меня пригласите в шафера, мне отец дьякон подаст книгу и я там распишусь: "по невесте — коллежский советник Иван Захаров сын Крупинский". Так или нет?
— Ну, так; а потом что?
— Следственно, это акт, да еще притом таинство, а не что-либо иное. Ведь вы не желаете быть только подругой господина Икса? Позволите мне римский термин?.. Его конкубиной!.. По-русски это звучит гораздо хуже.
— Знаю!..
Складочка на переносице девушки обозначилась резче.
— Стало быть, вы желаете заключить договор; но для этого вам надо расторгнуть другой договор господина Икса, уже существующий и для него обязательный.
— Почему же я его расторгаю?
— А то кто же? Вы причина, вы повод. Ведь если б он вами не увлекся, ничего такого бы не случилось? Вы, значит, употребляя термин Спинозы, natura natu-rans, а человек, вами увлеченный, — natura naturata… Так или нет?
— Увлечение — если это увлечение, а не настоящая любовь — с обеих сторон.
— Положим, с обеих. Но повод все-таки вы. Вы сами говорили мне и писали раньше, что господин Икс уже производил на вас нападения, в виде элегических и бравурных арий, когда вы его еще не любили?
— Разве я виновата?
— Все мы виноваты в чем-нибудь, Лидия Кирилловна. Вы не виноваты в том, что красивы и даровиты, и можете вызывать страсть; но тут не двое, повторяю я, завязаны в дело, а трое. Чтобы способствовать расторжению, и притом насильственному, существующего договора, вы, как честная девушка, должны убедиться в том, что та-то сторона — в старом-то договоре — действительно несостоятельна, что господин Икс жертва, что никаких печальных последствий от такого расторжения ни для нее, ни для других существ не предстоит. Одна ли она?.. Вы до сих пор мне ничего не говорили… Или есть плоды этого союза?
— Есть, — тихо, но почти жестко выговорила девушка.
— Ай-ай! И не один плод?
— Целых трое.
— Стало, уже шестеро душ завязаны в дело?.. И можно так, как немцы говорят: "mir nichts, dir nichts",[1] - резнуть по живому месту и выбросить из колеи несколько человеческих существ? Славно! Знаете, когда я был гимназистом, меня ужасно восхищали песенки Беранже в переводе Курочкина… И один припев засел у меня в голове на веки веков:
Вот они, вот — неземные создания —
Барышни, тра-ла-ла-ла!
Неземные создания. Это точно… Ничем земным не смущены, когда им чего захочется!
— С какой же стати, Крупинский, вы вообразили, что девушка, как я, пойдет на такой шаг "mir nichts, dir nichts"? Я знаю, что этот союз — вы так громко выражаетесь — не может продолжаться. Разве только тот договор можно расторгнуть, где кто-нибудь оказался недобросовестным, формально нарушил его? Господи! Да коли нет больше любви?.. Нет и понимания в ней. Да, нет! Это две натуры, ничем не связанные, кроме обузы обязательных отношений. Он — артист, с головы до пяток, ему нужна женщина — на высоте его таланта и его судьбы; а она — просто наседка, ограниченная, тошная, кислая, больная. Она не годилась бы для мужа и в сиделки, будь он старик, а не человек, полный сил. Щеки ее уже пылали. Она говорила сильно, сочными нотами, и грудь ее слегка вздрагивала от избытка волнения.
— И все это вы знаете доподлинно или в устной передаче господина Икса?
— Кто же вам давал право считать его лжецом? Да и от десятка посторонних лиц я слыхала то же самое.
— Значит, решение назрело, и все, что я вам скажу, будет бесплодно? — Он протянул руку. — Не сердитесь и дайте ручку. Все это прекрасно, Лидия Кирилловна, только смотрите, не перешагните через труп…
— Через труп?
— Я это не в прямом, а в образном смысле… Не перешагните через нравственный труп живого существа, не загубите души, которой вы сами не видали… Да и я тоже, к сожалению!..
Дачная жизнь была уже позади. На дворе стоял петербургский сентябрь, но еще светлый и теплый, хотя месяц подходил к концу.
В легкой кофточке возвращалась Ашимова домой, по набережной Фонтанки.
Она шла ускоренным шагом, и положение головы показывало, что она озабочена.
Ей не хотелось опоздать, прийти после того, кого она ждала к себе, около трех.
Больше недели они не видались. Он уехал в Москву, прислал оттуда две депеши, ничего не говорившие об успехе их «дела». Сегодня он должен был вернуться с курьерским, но просил не встречать его на вокзале.
Она любит в нем эту деликатность и осторожность. Он желает, чтобы для всех она была девушка с незапятнанной репутацией. От всяких поездок за город, в увеселительные места, и летом, и прошлой зимой, от троек и даже ресторанов он воздерживался; а любил повеселиться. Этим он прямо показывал, что готовит ее себе в жены, а не в «конкубины», как выражался ее приятель Крупинский.
Тот на службе, в своей провинциальной трущобе, пишет ей редко, как будто дуется на нее: они простились там, на даче, по варшавской дороге, куда он приезжал только для нее, не особенно нежно. Может быть, она сама была виновата. Но говорить с ним по душе — значило спорить или выслушивать его резонерство. Правда, он объяснял свои прокурорские допросы и заключения — дружбой к ней, боязнью, чтобы она, увлекшись, не пошла на какое-нибудь "нехорошее дело".
И выражение «дело» не выходит у ней из головы, как только она начнет думать о своей судьбе.
Вот и теперь дело, должно быть, не очень двинулось в Москве. Там он съехался с их адвокатом, возвращавшимся из Крыма. Оба они, каждый по-своему, должны были подействовать окончательно на жену, на тошную Анну Семеновну.
Каждый раз, когда она думает об этой женщине — а думает она о ней всякий день, иногда по нескольку раз, — она представляет ее себе угловатой, костлявой, с желчевыми пятнами на лбу и на щеках, в кацавейке, или сером вязаном платке и стоптанных туфлях, с запахом камфарного спирта и валерьяны, плохо причесанной, полуседой, вероятно, полулысой…
Но она не видала никогда ее портрета, даже простой карточки. Он не показывает, и у него на квартире, куда она стала заходить только с весны, нигде ее портретов нет. И это ее прельщает. Все та же деликатность сказывается в его поведении. Он не хочет, чтобы она имела повод, хоть в пустяках, ревновать к его прошлому.
Разве можно ревновать к такому прошлому? Он женился почти мальчиком, чуть не на втором курсе университета, на ровеснице. В такие годы всякая девчонка, будь в ней хоть что-нибудь сносное: глазки, или голосок, или наивность, ласка — кажется Лаурой Петрарки или тургеневской Асей. Ровесница тогда — теперь она его на десять лет старше: так всегда бывает для женщины, да еще замужней, с болезнями, с троими детьми… Кажется, и еще были дети, только не жили.
И когда она перебирает все это, ей ничуть не жаль ни женщины, ни матери, ни жены, а ведь она не считает себя ни злой, ни бездушной… В семье, в гимназии, в консерватории — она целых двенадцать лет училась в разных заведениях — ее любили, она слыла и слывет отличным «товарищем», давала всегда взаймы, оказывала всякие услуги: сколько народу пользовались ее добротой! Вспыльчива, резка — да, и не мало историй имела с начальством — учителями и профессорами; обидчива чрезвычайно, спорщица, задорна, самолюбива — все что угодно, но не бездушна, не сухая эгоистка. Этого никогда не было и не будет!