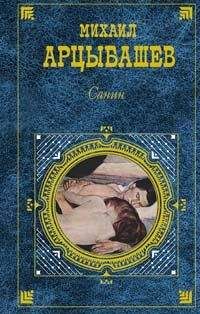Ему было хорошо, легко и радостно Зелень, солнце, голубое небо таким ярким лучом входили в его душу, что вся она раскрывалась им навстречу в ощущении полного счастья. Большие города, с их торопливым шумом и суетливой цепкой жизнью, опротивели ему Вокруг были солнце и свобода, а будущее не заботило его, потому что он готов был принять от жизни все, что она могла дать ему.
Санин жмурился и потягивался, с глубоким наслаждением вытягивая и напрягая свои здоровые, сильные мускулы.
Веяло тихой и мягкой прохладой и казалось, что весь сад вздыхает кротко и глубоко. Воробьи чирикали где-то, и близко и далеко, воровато и торопливо переговариваясь о своей маленькой, страшно важной, но никому не понятной жизни; а пестрый фокстерьер Милль, высунув красный язык и подняв одно ухо, снисходительно слушал их из гущи свежей зеленой травы. Листья тихо шелестели над головой, а их круглые тени беззвучно шевелились на ровном песке дорожки.
Марью Ивановну болезненно раздражало спокойствие сына. Как и всех своих детей, она очень любила его, но именно потому у нее кипело сердце и ей хотелось возмутить его, задеть его самолюбие, оскорбить, - лишь бы заставить придать цену ее словам и ее понятию о жизни. Каждое мгновение своего долгого существования она, как муравей, зарывшийся в песке, неустанно копошилась над созданием хрупкого, рассыпчатого здания своего домашнего благосостояния. Это скучное, длинное и однообразное здание, похожее и на казарму и на больницу, составлялось из мельчайших кирпичиков, которые ей. как бездарному архитектору, казались украшением жизни, а на самом деле то стесняли, то раздражали, то пугали и всегда заботили ее до тоски. Но все-таки она думала, что иначе жить нельзя.
- Ну что ж... так и дальше будет? - спросила она, поджав губы и притворно внимательно глядя в таз с вареньем.
- Как дальше? - спросил Санин и чихнул.
Марье Ивановне показалось, что и чихнул он нарочно, чтобы ее обидеть, и хотя это было, очевидно, нелепо, она обиделась и надулась.
- А хорошо у вас тут! - мечтательно сказал Санин.
- Недурно... - считая нужным сердиться, сдержанно ответила Марья Ивановна, но ей было очень приятно, что сын похвалил дом и сад, с которыми она сжилась, как с родными милыми существами.
Санин посмотрел на нее и задумчиво сказал:
- А если бы вы не приставали ко мне со всякими пустяками, то и еще лучше было бы.
Незлобивый голос, которым это было сказано, противоречил обидным словам, и Марья Ивановна не знала, сердиться ей или смеяться.
- Как посмотрю я на тебя, - с досадой сказала она, - и в детстве ты был какой-то ненормальный, а теперь...
- А теперь? - спросил Санин так весело, точно ожидал услышать что-то очень приятное и интересное.
- А теперь и совсем хорош! - колко ответила Марья Ивановна и махнула ложкой.
- Ну, тем и лучше! - усмехнулся Санин и, помолчав, прибавил: - А вот и Новиков идет.
От дома шел высокий, красивый и белокурый человек. Его красная шелковая рубаха, плотно обтягивающая немного пухлое, но рослое и красивое тело, ярко вспыхивала красными огоньками под солнечными пятнами, а голубые глаза смотрели ласково и лениво.
- А вы все ссоритесь! - таким же ленивым и ласковым голосом протянул он еще издали. - И о чем, ей-Богу!..
- Да вот, мама находит, что мне больше шел бы греческий нос, а я нахожу, что какой есть и слава Богу!
Санин сбоку посмотрел на свой нос, засмеялся и пожал пухлую широкую ладонь Новикова.
- Ну, еще что! - с досадой отозвалась Мария Ивановна.
Новиков громко и весело засмеялся, и круглое мягкое эхо добродушно захохотало в зеленой чаще, точно кто-то добрый и тихий радовался там его веселью.
- Ну, я са-ам знаю... все о твоей судьбе хлопоты идут!
- Вот поди ж ты! - с комическим недоумением сказал Санин.
- Ну, так тебе и надо!
- Эге! - вскрикнул Санин, - если вы за меня в два голоса приметесь, так я и сбежать могу!
- Я сама, кажется, скоро от вас сбегу! - с неожиданной и, больше всего для нее самой, неприятной злобой проговорила Марья Ивановна, рывком дернула таз с жаровни и пошла в дом, не глядя ни на кого. Пестрый Милль выскочил из травы, поднял оба уха и вопросительно посмотрел ей вслед. Потом почесал носом переднюю лапу, опять внимательно посмотрел на дом и побежал куда-то в глубь сада по своим делам.
- Папиросы у тебя есть? - спросил Санин, очень довольный тем, что мать ушла.
Новиков достал портсигар, лениво изогнув назад свое крупное спокойное тело.
- Напрасно ты ее дразнишь, - с ласковой укоризною протянул он, женщина она старая...
- Чем я ее дразню?
- Да вот...
- Что ж "вот"?.. Она сама ко мне лезет. Я, брат, никогда от людей ничего не требовал, пусть и они оставят меня в покое...
Они помолчали.
- Ну, как живешь, доктор! - спросил Санин, внимательно следя за изящно-прихотливыми узорами табачного дыма, нежно свивавшегося в чистом воздухе над его головой.
Новиков, думая о другом, ответил не сразу.
- Пло-хо...
- Что так?
- Да так, вообще... Скучно. Городишко осточертел по самое горло, делать нечего.
- Это тебе-то делать нечего? А сам жаловался, что вздохнуть некогда.
- Я не о том говорю... Нельзя же вечно только лечить да лечить. Есть же и другая жизнь.
- А кто тебе мешает жить и другой жизнью?
- Ну, это вопрос сложный!
- Чем же сложный?.. И чего тебе еще нужно: человек ты молодой, красивый, здоровый.
- Этого, оказывается, мало! - с добродушной иронией возразил Новиков.
- Как тебе сказать, - улыбнулся Санин, - этого, пожалуй, даже много...
- А мне не хватает! - засмеялся Новиков; по смеху его было слышно, что мнение Санина о его красоте, силе и здоровье было ему приятно и что он слегка смущен, точно барышня на смотринах.
- Тебе не хватает одного, - задумчиво сказал Санин.
- Чего же?
- Взгляда настоящего на жизнь... Ты вот тяготишься однообразием своей жизни, а позови тебя кто-нибудь бросить все и пойти куда глаза глядят, ты испугаешься.
- Куда? В босяки? Хм!..
- А хоть бы и в босяки!.. Знаешь, смотрю я на тебя и думаю: вот человек, который при случае способен за какую-нибудь конституцию в Российской империи сесть на всю жизнь в Шлиссельбург, лишиться всяких прав, свободы, всего... А казалось бы, что ему конституция?.. А когда речь идет о том, чтобы перевернуть надоевшую собственную жизнь и пойти искать интереса и смысла на сторону, сейчас же у него возникает вопрос: а чем жить, а не пропаду ли я, здоровый и сильный человек, если лишусь своего жалованья, а с ним вместе сливок к утреннему чаю, шелковой рубашки и воротничков?.. Странно, ей-Богу!
- Ничего тут странного нет... Там дело идейное, а тут...
- Что тут?
- Да... как бы это выразиться... - Новиков пощелкал пальцами.
- Вот видишь, как ты рассуждаешь! - перебил Санин, - сейчас у тебя эти подразделения!.. Ведь не поверю же я, что тебя больше гложет тоска по конституции, чем по смыслу и интересу в собственной твоей жизни, а ты...
- Ну, это еще вопрос. Может, и больше! Санин с досадой махнул рукой.
- Оставь, пожалуйста! Если тебе будут резать палец, тебе будет больнее, чем если палец будут резать у любого другого русского обывателя... Это факт!
- Или цинизм! - постарался Новиков сказать язвительно, но вышло только смешливо.
- Пусть так. Но это правда. И теперь, хотя не только в России, но и во многих странах света нет не только конституции, но даже и намека на нее, ты тоскуешь потому, что твоя собственная жизнь тебя не ласкает, а вовсе не по конституции! И если будешь говорить другое, то соврешь. И знаешь, что я тебе скажу, - с веселым огоньком в светлых глазах перебил сам себя Санин, - и теперь ты тоскуешь не оттого, что жизнь вообще тебя не удовлетворяет, а оттого, что Лида тебя до сих пор не полюбила! Ведь правда?
- Ну, это ты уже глупости говоришь! - вскрикнул Новиков, вспыхивая, как его красная рубашка, и на его добрых спокойных глазах выступили слезы самого наивного и искреннего смущения.
- Какие глупости, когда ты из-за Лиды света белого не видишь!.. Да у тебя от головы до пят так и написано одно желание - взять ее. А ты говоришь - глупости!
Новиков странно передернулся и торопливо заходил по аллее. Если бы это говорил не брат Лиды, он, может быть, тоже смутился бы, но ему было так странно слышать именно от Санина такие слова о Лиде, что он даже не понял его хорошенько.
- Знаешь что, - пробормотал он, - ты или рисуешься, или...
- Что? - улыбаясь, спросил Санин.
Новиков молча пожал плечами, глядя в сторону. Другой вывод заключался в определении Санина как дурного, безнравственного, как понимал это Новиков, человека. Но этого он не мог сказать Санину, потому что всегда, еще с гимназии, чувствовал к нему искреннюю любовь. Выходило так, что ему, Новикову, нравился дрянной человек, а этого, конечно, быть не могло. И оттого в голове Новикова сделалось смутно и неприятно. Напоминание о Лиде было ему больно и стыдно, но так как Лиду он обожал и сам молился на свое большое и глубокое чувство к ней, то не мог сердиться на Санина за это напоминание: оно было и мучительно, и в то же время жгуче приятно. Точно кто-то горячей рукой взялся за сердце и тихонько пожимал его.