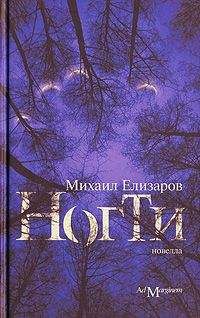Конечно, ему было трудно в течение месяца не прикасаться к ногтям. Приходилось искать искусственные заменители. Мы предпринимали тайные вылазки на окрестные свалки и там собирали пробки из-под шампанского, пластмассовые крышки и вообще все мягкие пластиковые предметы.
Я пытался занять Бахатова отвинчиванием шариков. Года два он вяло следовал моему примеру, потом забросил, говорил, что не видит смысла. Я объяснял ему, что в этом и есть глубинный смысл — отвинчивать неотвинчиваемое. Бахатов лишь качал головой и улыбался.
А в остальном, наши дни текли спокойно, сыто и размеренно. В те времена государство кормило нас на пять рублей в сутки. Мы получали по воскресеньям шоколад и даже праздновали Новый Год и Первомай. На праздники всех детей звали по именам и только провинившихся или обгадившихся — по кличкам. Правда и то, что безропотному большинству было все равно, как звать, чем кормят и в чем они спят. Далекие от мира и речи, они существовали запредельной немой мыслью, которая едва шевелила их медленные лица. Некоторые дети не разговаривали, а пользовались жестами. Играли тоже по-особенному, в одиночку, сидели без движения, что-то шептали, а игрушку держали в руке. Сюжетные события разыгрывались в воображении. Спросишь такого, что он видит, а тебе в ответ: «Прекрасных зайчиков», — и ни слова больше. Со многими мы подружились. Они оказались славными: и механический ползун Толя Вездеход, и гидроцефал Димка, по прозвищу Чеснок, и Сульфат Магний Ибрагим, прилежный даун, и Катька Надоела Голова, чудаковатая девчонка, — всех не перечислишь.
Они умирали тихо и незаметно: кто во сне, кто в момент кормления; шейка будто надламывалась, голова свешивалась на бок, и глаза леденели. Всегда умирали по двое, с небольшим интервалом. Каждому находился братик или сестричка в смерти. Если родные не приезжали за трупами, их хоронили на собственном кладбище, находившемся на территории интерната.
Кладбище было хозяйственной гордостью Игната Борисовича. Из гуманных соображений, его разместили подальше от детских глаз. По эстетическим соображениям, места захоронения окружала живописная парковая природа. Игнат Борисович особенно упирал на то, что за могилками у нас всегда присмотрят.
Самой нелепой смертью умер, пожалуй, только наш Толя-Вездеход. Он ползал, надо сказать, замечательно, преодолевая трудные поверхности. Увязался он как-то с нами, ходячими, гулять и угодил в старую выгребную яму — видно затянуло проклятую зеленой ряской. Вездеход, приняв ее за лужайку, ушел на дно, как и полагается тяжелой металлоконструкции, гордо и тихо, без криков о помощи.
Но в свободное от смерти время все же бывало весело, особенно в Новый Год. В самой большой палате койки отодвигались к стенам, а в центре ставилась елка. За неделю до торжества все садились мастерить игрушки: вырезали из старых «Огоньков» яркие картинки, наклеивали на картон, а няньки делали нитяные петельки. Мы разучивали стихи и песни. Те, кто мог, украшали окна бумажными снежинками. Под вечер Игнат Борисович приносил из кабинета телевизор, включал его, и начинался праздник. До московских курантов мы успевали поводить хоровод вокруг елки, развлечь себя и медперсонал самодеятельными номерами, поиграть в подвижные игры, типа «Кто быстрее перенесет мамины покупки» — любимая игра Игната Борисовича. Он ужасно смеялся, глядя, как мы сшибались лбами, перенося со стула на стул импровизированные мешочки с покупками загадочной мамы. Потом мы отплясывали под аккомпанемент нашего музыканта Власика. Он разводил пустыми руками, имитируя игру на баяне, при этом всегда мычал один и тот же мотив: «На танцующих утят быть похожими хотят…» и в такт притоптывал ножкой. Мы выделывали танцевальные па, приседали, кружились — воображаю, насколько потешно это выглядело в моем исполнении — а Игнат Борисович, все сестры, санитары и няньки хлопали в ладоши. Ровно в девять нам наливали побродившего компоту и укладывали спать, то есть Новый Год мы встречали во сне.
В будничные дни по утрам мы получали образование. Наша школа, то есть место, где проходили занятия, находилась на первом этаже интерната. Одну из комнат преобразовали в учебный класс. Поставили несколько стареньких парт подарок совхозных шефов, а на стену повесили доску. Парты были изрисованы прежними детьми, и, благодаря этим каракулям, я ощущал себя настоящим школьником. Наш урок длился около получаса, и в день больше одного предмета не преподавали, чтоб не перегружать наши маломощные мозги.
В школе, кроме меня и Бахатова, училось еще шесть ребят. Я сидел за одной партой с Бахатовым. Мы занимались по индивидуальной программе и были единственными, кому ставили настоящие оценки в журнал. Остальным раздавали картонные «пятерки». По-моему, они и в школу-то ходили только ради этих игрушек.
Учителя, которые приходили из поселка, побаивались нас. Их отвращали наши лица, неправильные туловища, невнятные голоса, мимика, жесты — все вызывало брезгливый страх. Как-то на уроке математики Бахатову долго не давалась задачка, он провозился над ней весь урок, вдруг его осенило, он нашел решение и, радостно гудя, подбежал к молоденькой учительнице. Она упала в обморок — так испугалась Бахатова.
Я с благодарностью вспоминаю аспирантов мединститута, чьи работы каким-то образом касались вопросов педагогики для слабоумных. За полтора года, что они тренировались на нас, мы освоили письмо, читали из специальных книжек, а потом рассказывали, что поняли. И это было очень интересно.
Потом аспирантов сменили обыкновенные учителя. Уроки литературы превратились в чтение вслух сказок, урок языка в малевание палочек и крючочков. Учителя-мужчины выпивали с Игнатом Борисовичем и весь урок сидели безмолвные у окна. Кто-то, наоборот, оживлялся и вместо положенной географии или ботаники начинал вдруг говорить с нами о жизни, откровенничая, как с пустым пространством. На уроке истории однажды я услышал о своем однофамильце. Нам рассказывали о средневековой Англии, войне Алой и Белой Розы и горбатом герцоге Ричарде Глостере. Много лет спустя, в фильме Алана Паркера «Стена», я увидел мультипликационную схватку цветов, больше похожую на совокупление. Я был поражен тому, что именно так и воспринимал цветочную войну.
От пионеров в наследство осталась небольшая библиотека. Я прочел ее всю. Очень мне нравились стихи и вообще сама возможность рифмования. В одной детской книжке под картинкой был стишок:
Двери распахнул отец:
— Получайте огурец!
Не знаю почему, но ситуация представлялась мне необычайно комичной. Сидят себе люди в комнате, вдруг — бах! Распахивается дверь, и на пороге пошатывается отец с огурцом в руке: «Нате, — говорит, — огурец!»
Когда эти строчки приходили мне на ум, я начинал биться в приступах хохота. Литературная мощь двустишия иногда среди ночи поднимала меня и заставляла безмолвно дрожать животом. Во время обеда я прыскал на всех супом, если эта уморительная ситуация всплывала в голове, а я сидел с полным ртом. К сожалению, мне даже не хватало сил прочесть стих хоть кому-нибудь. Я пускал пузыри и давился смехом. Если меня уж очень обижали, я уходил в тихое место и там читал для себя про отца и огурец, и тихо смеялся.
Я вспоминаю первые в жизни звуки музыки. До трех лет детства я не тратил эмоций и слыл спокойным ребенком. Но однажды, после очередной инспекции, устроившей разнос за то, что у детей в палате нет радиоприемника, все волшебно изменилось. Пришел больничный столяр и над бесконечно высокой и недоступной розеткой приладил полочку, а чуть позже сестра-хозяйка установила на нее ребристый белый брусок с черным, похожим на собачий нос колесиком. В тот день я себя неважно чувствовал, навалилась очередная хандра и перекололи меня всякой дрянью. И тут заиграла музыка.
Сейчас мне кажется, что это был Чайковский, фрагмент из «Щелкунчика». Под льющиеся со стены звуки я представил, что умер. Величественная громада музыки привиделась мне собственным прекрасным трупом, и в этом мертвом отражении меня, в каждой ноте звучала боль и сладость спины. Я слушал не ушами, а мыслью, холодившей пустоту горба. Моя искривленная плоть чувствовала с музыкой родство, стремилась стать ее горбохранилищем.
Я ощутил всю жизненную тяжесть вскинутого на спину живота, беременного чудным постояльцем. Едва проникнув в горб, он наиграл услышанные звуки. Мои всегда сухие глаза свело судорогой слез, я зарыдал, и только от того, что в моем мясистом музыкальном центре играл самостоятельный, неслышный миру, органчик. То была боль первого вдоха младенца, первая резь в легких.
С того момента все свободные от дружбы с Бахатовым часы я проводил у радиоприемника. Персонал только посмеивался над этой симфонической страстью. Наблюдая за мной, за моей внимательной согбенной позой, они говорили, что горбун не слушает, а подслушивает у радио.