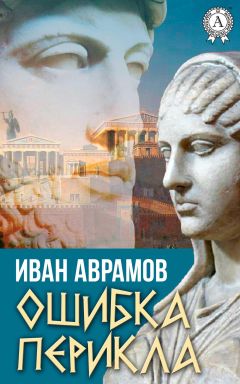Вообще-то великое множество советских людей прекрасно было знакомо с образом этого героического поэта и только удивлялось, как этот молодой человек сумел так преуспеть в своих деяниях на протяжении стольких пятилеток во славу Родины. Многие еще помнили его суровые репортажи из траншей Гвадалахары и из гущи уличных боев в Барселоне, не говоря уже о его дерзких, под пулями шюцкоровцев, проникновениях за линию Маннергейма.
В мирные периоды очеркист Смельчаков без промедления становился своим человеком на стройках Магнитки, Днепрогэса и Каракумского оросительного канала. Вновь звучала труба классовых битв, и Кирилл за рулем одной из многосотенных армад красных танкеток прокатывался по улицам Таллина, Риги, Вильнюса, Львова, Белостока и пел, пел зарю нового века пролетарской свободы. Ну, и наконец, великое поприще Отечественной войны, сопряженное с парашютными десантами в тыл врага, с прямыми репортажами из пекла танковых ристалищ на огненной Курской дуге, с полетами на боргах челночных «летающих крепостей», с подводными эскортами полярных конвоев антигитлеровской коалиции, это поприще давало ему возможность проявить свою отчаянную смелость и писательское мастерство в создании исполненной сдержанного патриотического восторга галереи портретов сталинских полководцев и рядовых тружеников тыла и бойцов фронта, бьющих фашистского зверя в его собственной берлоге.
С той же решимостью и его привычной, едва ли не «аристократической» сдержанностью (это определение, впрочем, никогда не употреблялось на официальных страницах, что естественно в государстве рабочих и крестьян) Смельчаков примкнул после войны к блестящей плеяде сторонников мира, к Илье Эренбургу, Константину Симонову, Фредерику Жолио-Кюри, Манолису Глезосу и другим всем известным личностям, бесстрашно бросавшим вызов реакционным оборотням империализма, готовым ради сверхприбылей ввергнуть человечество в пучину атомной войны.
Это новое поприще было во многом сложнее поприщ старых. «Лейки и блокноты, а то и пулеметы», конечно, все еще шли в ход, особенно там, где патриоты бросали прямой вызов реакции — ну, предположим, на горных склонах Македонии, в рядах армии генерала Маркоса или на зенитных батареях корейской 38-й параллели, — однако не меньшее мужество требовалось, чтобы неспешными шагами выйти в центр сцены какого-нибудь зала Мютюалите и произнести несколько завораживающих слов:
Товарищи, сидящие в этом зале,
как Маяковский, обращаюсь я
к вашему костяку.
Встаньте в наш всемирный полк,
где командиром
Сталин,
чтобы прибыло здравого смысла
человеческому
косяку!
Эта мирно-партизанская в тылу врага деятельность по причине отсутствия в ней прежнего героического резонанса, может быть, не привлекла бы к личности Кирилла Смельчакова привычного читательского внимания, если бы не сопровождалась она удивительной по своему объему и вдохновению сугубо писательской, а особенно сугубо поэтической деятельностью. Подумать только, в молодые свои годы он был уже автором пятнадцати поэтических сборников, каждый толщиной не менее двух спусковых пальцев. И в каждом из этих сборников возникали перед любителями поэзии образы героических немногословных мужчин, тружеников, или лучше сказать профессионалов войны, в каждом разворачивались драматические пейзажи, готовые ежеминутно расколоться в артиллерийских дуэлях, в поэтическом мире с его мирным ткатным небом, с его тонким серпиком луны, что напоминает тебе о любимой, и где вдруг начинается воздушный бой, похожий снизу на детскую игру, откуда время от времени падают вниз отыгравшиеся, наши и немецкие профессионалы и куда вдруг с земли начинают бурно вздыматься гигантские черные клубы дыма от пораженного нефтехранилища, и стоит немалого труда еще прослеживать тоненький серпик луны; ну, в общем, в этом духе.
Вот лишь один пример его рожденной в самом пекле фронтовой лирики.
ВЫСАДКА В КЕРЧИ
Боспорский царь, проснешься ль ты
От наших пушек?
Восстань средь кладов золотых!
Целы ли уши?
Враг пер, как ошалевший зверь,
На катакомбы,
Мы брали Керчь,
Спускались в смерть,
А юнкерсы на нашу твердь
Валили бомбы.
Где черпал древний Митридат
Истоки веры?
Мы верили в свой автомат,
В порывы штурмовых команд
И пили за своих солдат,
За наших рухнувших ребят
Трофейный вермут.
Стихи такого рода поднимали дух «штурмовых команд», то есть всякого рода десантников и диверсантов, на всем гигантском пространстве действующей армии. Перед смельчаковским культом мужского солдатского братства бледнели трафареты Главполитупра. Именно из этого почтенного управления поползли шепотки о том, что «смельчаковщина» с ее чуждым духу советской военной поэзии «неокиплингианством» противоречит самому духу основной доктрины патриотизма. Стало известно, что в «Красной звезде» готовится основополагающая статья, в которой к Киплингу будет еще пристегнут контрик Гумилев с его «святой жатвой войны».
Однажды Кирилл летел в Польшу на личном самолете маршала Градова. Главком пригласил его зайти в кокпит (он обычно сидел в штурманском кресле) и с улыбкой протянул свежий номер «Звездочки». В статье, которой была отдана целая внутренняя полоса, не было ни одного термина со зловещим суффиксом «щина». Под заголовком «Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались» речь там шла о том, что фронтовые стихи молодого коммуниста Смельчакова — это не что иное, как продолжение поэтического эпоса гражданской войны, а также всей традиции патриотизма в ее высшей фазе (запятая и уточнение в стиле Верховного), в фазе сражающейся вместе со всем советским народом литературы социалистического реализма. Именно этим объясняется популярность его стихов среди героев фронта и тыла.
Герой статьи испытал троякое чувство: с одной стороны, угроза идеологического избиения была развеяна, со второй стороны, было лестно узреть себя продолжателем великой традиции, с третьей же — было слегка досадно от того, что весь этот набор фраз засовывал его в привычную обойму мастеров хорового пения, всех этих сурковых, исаковских и лебедевых-кумачей. Кому же я обязан такими суперлятивами? — спросил он главкома. Уж не нам ли, Ник Бор? Тот усмехнулся. Подымай выше. Выше маршалов, главкомов фронтов, в тогдашнем мироздании парило только одно существо. Градов многозначительно, но с явной ухмылкой покивал. Ну а киплингианство твое, Кирилл, вкупе с гумилевщиной мы сохраним для внутреннего пользования.
Он умолчал о том, что третьего дня на пиршестве у Микояна он преподнес вождю сборник стихов Смельчакова под титулом «Лейтенанты, вперед!» Здесь вы, Иосиф Виссарионович, найдете героев нашего времени, поколения победителей. Сталин полистал книжечку, попыхтел в трубочку, потом произнес тост: за наших лейтенантов, за поколение победителей!
Другие темы
Что касается других тем поэта, то среди них была одна, не упоминающаяся критикой, но находящаяся во «внутреннем пользовании» многомиллионных масс; имя ей — эрос, любовь. Любовная лирика Смельчакова в отличие от героических или сугубо гражданственных стихов в его сборники почти не попадала по причине «излишней чувственности», которая могла бросить тень на высокую мораль советского человека. Ну а если уж такие стихи выходили в свет, то лишь в разрозненном виде, в глубине каких-нибудь, скажем, сугубо женских журналов «Работница» или «Крестьянка», а чаще на внутренних полосах газет, порою весьма заштатных, вроде «Учительской» или «Медицинской», иной раз и в периферийных, ну, скажем, в «Уральской кузнице» или в «Крымской здравнице», и всегда вроде бы между делом, в каком-нибудь уголке: дескать, не обязательно и читать, а вникать и вообще не нужно. Между тем всякая такая публикация любимца читающей публики вызывала сущий трепет, ибо в стихах угадывались, хоть и смутно, черты его очередной пассии, романтической красавицы, звезды. Этот образ Жены, или Любимой, словно некий кинематографический миф, всегда сопровождал всесоюзного кавалера, мелькал то там, то сям даже и в самых отчаянных боевых эпизодах. Ну вот, например:
НАДЕЖДА ПАРАШЮТИСТА
Ныряет «дуглас», как дельфин,
Ревет проклятья.
Закрыв глаза, я вижу фильм:
Твои объятья.
Готовьсь! Душа, обожжена,
В успех не верит.
Но ты летишь со мной, жена,
В пустые двери.
В единоборстве с сатаной
Кичиться — глупо!
Но ты раскроешь надо мной
Надежды купол.
Прочтя такой стих, скажем, в газете «Советский спорт», публика начинает гадать, кто эта Надежда: может быть, Целиковская или Любовь Орлова, а то, глядишь, может, и Дина Дурбин? Стих вырезают из газеты, перепечатывают на машинке, переписывают в альбомчики. Где-нибудь в хронике промелькнет красавец Смельчаков, и тут же по этим кадрикам расплодятся фотопортретики с текстом «Надежды», что идут нарасхват в киосках «Союзпечати» или даже на колхозных рынках. Народ жаждет знать своих героев.