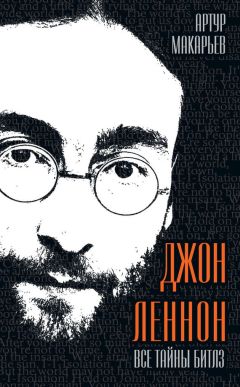лишь годом условно.
– Да, история... – отвечаю. Я не могу ей признаться в воровстве отца. Или, может, Алина уже знает о нашем семейном позоре?
– Джон, ты кого-нибудь любишь? – вдруг тихо спрашивает она.
– Была одна девочка. Но счастье длилось недолго: вмешались ее предки и все испортили.
– Чем же ты им не понравился?
– Она – дочь профессора, должна окончить школу с золотой медалью и поступить в институт. А я – хулиган.
– А почему тебя называют Джоном?
– Я знаю наизусть много песен «Битлов» и «Роллингов». И вообще, я человек крайне западных взглядов.
– Вы с Вадиком учитесь в одном классе?
– Нет, в параллельных. А что?
– Да так, ничего. Давай спать.
…Еще вчера Алина была для меня просто подругой детства. Настоящий же интерес вызывала некая брюнетка лет двадцати пяти. На пляже она часто натирала свое тело кремами, потом ложилась на живот и расстегивала лифчик. Я тут же захлопывал книгу и мчался в воду. Плыл, проделывая полукруг, чтобы, возвращаясь по берегу, пройти мимо нее. Вечерами старался сесть рядом с нею в беседке, где смотрели телевизор, пытался сыграть с нею партию в настольный теннис, словом, тайно ее преследовал и безнадежно страдал.
И вдруг... Алина. И мы с нею ночью вдвоем...
Я долго ворочаюсь. Почему-то вспоминаю Вадика Гольдштейна, вижу его пухлые губы и очки на кривом носу.
– Вот сволочь! – хлопаю себя по шее и растираю в пальцах что-то липкое.
Отец Вадика Гольдштейна занимал должность замдиректора фабрики. Впрочем, это абсолютно не волновало парней из старших классов нашей чудесной школы. На переменах они по двое или по трое ходили по школьным коридорам, отлавливали ребят-евреев и вымогали у них деньги или вполсилы отрабатывали на них удары. Мои еврейские сверстники без особой нужды в коридорах не появлялись, а после занятий что было духу мчались из школы вон. Преподаватели знали об этой травле, но почему-то никаких серьезных мер не принимали. Вадик Гольдштейн тоже нередко становился жертвой этих ублюдков из школьного «гитлерюгенда».
Зато летом, на деснянской базе отдыха, Вадик из затравленного утенка превращался в прекрасного лебедя. Здесь вступали в силу иные отношения: отдыхающим не нужно было напоминать, что этот смуглолицый паренек – сын замдиректора фабрики Мирона Наумовича Гольдштейна.
Просторный дом Гольдштейнов был затенен липами, по веранде вилась виноградная лоза. Вадику было позволено многое: в его распоряжении всегда были весла и ключи от замков привязанных лодок, и сети, и старые аккумуляторы. Свинцовые пластинки этих аккумуляторов мы переплавляли на рыбачьи грузила, разжигая костры у домиков. Комендант, завидев такое вопиющее нарушение правил пожарной безопасности – если с нами был Вадик, не орал матом, а вежливо просил переместиться с огнем куда-нибудь за территорию базы.
Вадик приезжал на базу со своей бабушкой. Наверняка в молодости она была эффектной женщиной. Даже сейчас, в свои шестьдесят, обращала на себя внимание статью и явно не фабричными манерами: носила соломенную шляпу и стильные солнцезащитные очки, на пляже полулежала в шезлонге под зонтом, редко купалась, в основном читала журналы и, отрываясь от чтения, рассматривала свои холеные руки, унизанные кольцами на длинных ровных пальцах.
Словом, на этой солнечной базе, под опекой своей аристократичной бабушки, Вадик чувствовал себя поместным дворянчиком. Мое обычное сочувствие к нему, как к еврею, здесь сменялось пролетарской завистью и плебейским заискиваньем.
Испортить с Вадиком отношения было проще простого. Унижения и травля в школе развили в нем болезненное самолюбие, а выгодное положение сына замдиректора фабрики разбудило чувство превосходства. Вадик позволял себе легко обижаться, но в пострадавших обычно оказывался сам обидчик, поскольку лишался права кататься на лодках, разводить костры и ловить рыбу сетями.
Как-то неожиданно Алина вошла в мой мир и стала в нем божеством. Мы ходили вместе на пляж, я предлагал ей сыграть партию в теннис, вместе смотрели телевизор в беседке. И, разумеется, каждый день я ждал прихода ночи. «Боже, сделай так, чтобы мама и сегодня не приехала! Пусть она остается в городе как можно дольше». Про беду, случившуюся с отцом, я и вовсе забыл.
Ох, как томительно тянулась ночь в наших пустых разговорах о комарах, о школе. Когда же разговор сворачивал на опасную тропинку любви, все птицы за окном умолкали, перепуганные грохотом моего сердца. Но грохот скоро стихал, потому что Алина начинала расспрашивать о Вадике: как он учится и нравится ли мне, как он играет на гитаре.
– Учится он отлично, ведь он еврей. А на гитаре играет неважно, – обиженно отвечал я.
– Можно подумать! Тоже мне, новый Джон Леннон нашелся.
Глубокой ночью мы, наконец, засыпали. В полусне я еще долго видел сползающие с ее плеч бретельки купальника, ее загорелую спину, маленькую белую грудь. И себя, подкравшегося и подглядывающего в щель неплотно прикрытой двери...
xxx
Нежно плещутся волны. Мы всей компанией расположились на подстилке и режемся в карты. Неподалеку от нас бабушка Вадика дремлет в шезлонге.
– Сегодня приедет мой старший брат, он обещал привезти мне две бутылки сухого вина, – полушепотом говорит Толян.
– Где будем пить? – спрашиваю.
– Давай у тебя.
– Нет, мама может нагрянуть в любую минуту.
– Тогда давайте на лугу, – предлагает Вадик. – Там уже собрали сено в стога. Вы ведь тоже пойдете с нами? – спрашивает он Алину и Светку.
Мы заговорщицки переглядываемся – наклевывается что-то заманчивое: вино, стога сена, девушки...
Оставив карты, идем купаться. Ныряю первым и плыву под водой, сколько хватает сил, в тайной надежде вызвать у Алины восхищение. Вынырнув, оглядываюсь.
Она стоит на берегу, возле нее – Вадик, что-то ей говорит. Сквозь плеск волн до меня доносится ее смех. Они хорошо смотрятся вдвоем: Вадик – высокий, крупный, с шевелюрой черных волос; Алина – тоже высокая, с выразительно округлившимися бедрами. А я, черт возьми, мелковат.
Вот они входят в воду и плывут.
Когда на ГЭС шлюзы закрыты, течения на речке почти нет. Когда же шлюзы открывают, речка, еще минуту назад спокойная, вдруг взрывается: вода с Киевского моря бурно вливается в устье, купаться в это время опасно.
– Поплыли