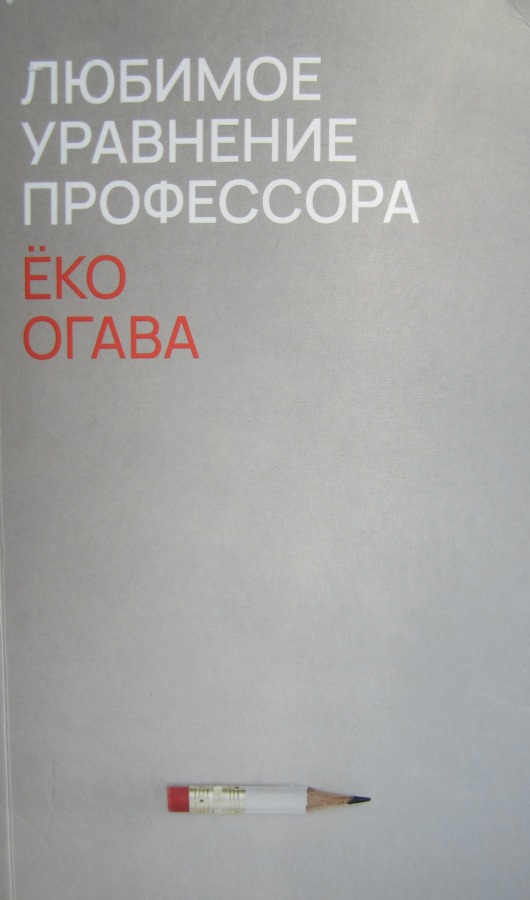пол.
По сравнению с сумасбродными требованиями, которые мне доводилось выполнять у других нанимателей: подвязывать волосы лентой каждый день другого цвета, остужать кипяток для чая ровно до 75 градусов, складывать руки в молитве, как только в вечернем небе вспыхнет Венера, и так далее, условия этого дома казались сущими пустяками.
— Значит, мы могли бы познакомиться прямо сейчас? — спросила я.
— Никакой необходимости в этом нет! — возразила она. Да так резко, будто я ляпнула нечто оскорбительное. — Познакомьтесь вы сегодня — завтра он все равно вас не вспомнит.
— Простите… в каком смысле?
— В том смысле, что у него проблемы с памятью, — пояснила она. — Это не старческий маразм: клетки мозга здоровы и в целом функционируют нормально. Просто семнадцать лет назад он повредил голову в автомобильной аварии. И с тех пор не может запомнить ничего нового. Его память обрывается на событиях тысяча девятьсот семьдесят пятого года и ничего, что случилось с момента аварии, не сохраняет надолго. Он помнит теорему, которую доказал тридцать лет назад, но понятия не имеет, что ел на ужин вчера вечером. Проще говоря, представьте, что в его голове — одна единственная видеокассета на восемьдесят минут. И каждый раз, записывая что нибудь свежее, он вынужден стереть все, что хранил на ней до тех пор. Таков запас его активной памяти. Ровно час двадцать — ни больше, ни меньше.
Она говорила ровно, без пауз, без каких-либо эмоций, явно повторяя все это, как мантру, уже в который раз.
Что такое запас активной памяти на восемьдесят минут, я представляла с трудом. Конечно, среди моих подопечных бывали и больные, но как тот опыт пригодился бы здесь, я понятия не имела. И тут же мысленно дорисовала на карточке Профессора очередную, десятую звезду.
Флигель — по крайней мере, на взгляд из дома — казался совсем заброшенным. Посреди окружавшей его живой изгороди, прямо между кустами фотинии, темнела старомодная калитка. На калитке висел огромный замок, изъеденный ржавчиной и птичьим пометом так, что, небось, и ключа уже не вставишь.
— Ну что ж… Начинать можете с понедельника, то есть послезавтра, если не против! — подытожила дама, давая понять, что все дальнейшие вопросы излишни.
Вот так я и начала присматривать за Профессором.
В отличие от особняка, флигель оказался строеньицем жалким и обшарпанным. Было сразу заметно: строили его наспех. Изумрудно-бордовые кусты фотинии, маскируя убогость жилища, оплетали фасад густыми неподрезанными ветвями. Входная дверь утопала в глубокой тени, а звонок оказался сломан.
— Какой у тебя размер обуви?
Это было первым, о чем Профессор спросил меня, едва услышал, что я — их новая домработница. Без поклона, без малейшего приветствия. Железное правило «не отвечай работодателю вопросом на вопрос» я помнила крепко и потому ответила ровно то, что меня спросили:
— Двадцать четыре [1].
— О… Какое благородное число! — воскликнул Профессор. — Факториал четверки!
Он скрестил руки на груди, закрыл глаза и погрузился в молчание.
— Что такое «факториал»? — спросила я на всякий случай. Просто чтобы понять, зачем это работодатель интересуется размером моей обуви.
— Если перемножишь все натуральные числа от единицы до четырех, получишь двадцать четыре! — ответил он, не открывая глаз. — А какой у тебя номер телефона?
— Пятьсот семьдесят шесть — четырнадцать — пятьдесят пять…
Он с явным интересом кивнул.
— О-о? Пять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят пять? За-ме-ча-тельно!.. Именно столько простых чисел содержится в ряду от единицы до ста миллионов!
Что уж такого «замечательного» в номере моего телефона, я так и не поняла, но в самом голосе Профессора слышалась необычная теплота. Казалось, он вовсе не пытается хвастать своими познаниями, напротив — очень сдержан и требователен к себе. От такого голоса можно запросто впасть в иллюзию, будто в номере твоего телефона и правда зашифровано нечто судьбоносное, а поскольку принадлежит он тебе, то и судьба твоя получается какой-то особенной.
Лишь поработав у него какое-то время, я раскусила эту его привычку. Каждый раз, когда Профессор не знал, что сказать — или о чем вообще говорить, — вместо слов он обращался к числам. Таков был его способ общения с окружающим миром. Нечто вроде руки для пожатия. А заодно и некая защитная оболочка. Скафандр, который с него не сорвать никому на свете и внутри которого он прятался, точно улитка в ракушке.
До последнего дня, пока я не уволилась из агентства, каждое утро разыгрывалась одна и та же сцена: Профессор открывал дверь, и мы с ним играли в числа. Для подопечного, чья память обнуляется каждые восемьдесят минут, я каждый раз была новой домработницей, с которой он никогда не виделся прежде. Из утра в утро он знакомился со мной впервые, краснея и путаясь в учтивостях от смущения.
Кроме размера обуви и номера телефона, он также спрашивал мой почтовый индекс, регистрационный номер велосипеда, количество черт в иероглифах моего имени и так далее. Вариаций было несколько, но заканчивались они все одинаково: едва услышав число, он тут же старался придать ему какой-нибудь смысл. Причем делал это мгновенно и без видимых усилий, упоминая все эти факториалы небрежно, словно бы невзначай.
Но даже после того, как он просветил меня и насчет факториалов, и насчет простых чисел, неизменная свежесть нашей «каждый раз первой» встречи в прихожей продолжала радовать меня по утрам. Что ни говори, а с мыслью о том, что твой телефонный номер что-то значит отдельно от самого телефона, куда веселее начинать рабочий день.
Профессору было шестьдесят четыре, и когда-то он преподавал теорию чисел в университете. Выглядел он старше своих лет и казался таким изможденным, будто много лет недоедал. И без того малорослый — каких-то метр шестьдесят, — он казался еще миниатюрней из-за жуткой сутулости. В глубоких морщинах на худой шее темнела вековая пыль, а белоснежная шевелюра торчала в стороны клочьями, наполовину скрывая оттопыренные уши. Говорил он тихо, двигался как на замедленной кинопленке, и чем бы ни занимался, угадать его намерения мне удавалось не сразу.
Тем не менее лицо его, несмотря на страшную худобу, можно было даже назвать благородным. По крайней мере, когда-то давно был красавчиком, это уж точно. А решительный, резко очерченный подбородок и глубоко посаженные глаза оставались притягательны до сих пор.
Но каждый день — не важно, сидел ли он дома или в кои-то веки все-таки выбирался на люди, — каждый день без исключения он был в костюме с галстуком. Три костюма — зимний, летний и демисезонный, — три галстука, шесть сорочек и пальто из натуральной шерсти —