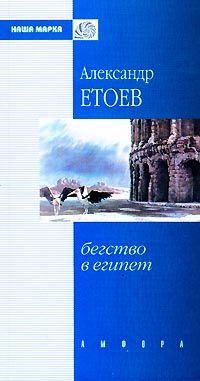и мигает лампочка в коридоре, утренняя очередь в туалет… На улице было лучше.
Посверкивал диабаз, небо перебегали тучки, но день обещал быть тёплым.
Ничего особенного от нашей улицы я не ждал, я знал её как облупленную. Трамваи по ней не ходили, криминальный элемент Кочкин с июня был прописан в колонии, до ноябрьских праздников почти месяц. Друг и тот репетирует по утрам – так что приходится гулять в одиночестве.
Поэтому когда я увидел стоящего у стены человека, то поначалу не заметил в нём ничего особенного. Стоит себе и стоит у дома № 13, голову задрал вверх, над ним на фасаде кариатида, похожая на гипсовых физкультурниц из ЦПКиО; когда-то кариатид было две, но напарницу её в прошлом марте убила ледяная сосулька, когда скалывали с крыш лёд.
Но что-то меня в этом типе заинтересовало.
Какой-то он был не такой, как все. Не совсем такой. Стоял он не то чтобы беспокойно, но всё-таки теребил пуговицу на рукаве. И пусть бы себе теребил, но при этом он удивительно напоминал Лодыгина, нашего лестничного соседа, очень непонятного человека.
Такое же пальтецо, мышиного с пролысью цвета. Те же брюки в кривую линейку. И шляпа – главное, шляпа старинного охотничьего покроя.
А на шляпе – сбоку – жестяная птица глухарь.
И уши, и нос трамплином, и голос – всё было его.
И только рыжие мочалки усов, топырящиеся из-под мохнатых бровей, были, кажется, не его.
Я задумался.
Глаза странного человека закрывали огромные, в пол-лица, очки – коричневые, без просветов, как маска.
Нет, очки были не лодыгинские. Тот носит обыкновенные, и дужка перемотана изолентой.
Я задумался ещё крепче. Мне сделалось интересно. Я стал присматриваться. Сначала к шляпе с приклёпанным к ней намертво глухарём.
Шляпа на человеке жила своей особенной жизнью. Она тихо сползала ему на глаза, доходила до какой-то черты и, должно быть почувствовав, что пора, быстро падала с головы на асфальт.
Асфальт всхлипывал, шляпа – тоже, человек нагибался за шляпой, и в это время с лица спадали очки.
Так он стоял, сгибаясь и разгибаясь. Сначала падала шляпа, потом, за шляпой, очки. По очереди: шляпа – очки.
Но кто это был, Лодыгин или не он, с места, откуда я наблюдал, было не разглядеть.
Человек стоял рядом с домом, плечом подпирая стену, и в промежутках, когда не двигался, напускал на себя вид человека, который очень старательно высматривает кого-то на улице. Слишком старательно – и дураку было ясно, что смотрит он для отвода глаз. Я это понял сразу. Но это было ещё не всё. Не самое любопытное. Интереснее было другое.
Рядом с ним стоял другой человек, без шляпы.
Ростом этот второй был ниже первого ровно на высоту шляпы, это когда у первого она держалась на голове. Стоял он ровно, не сгибаясь – не разгибаясь.
Лица у них были похожи. Вернее, очки на лицах. Коричневые, огромные, как будто куплены в одном магазине.
Я тихонько присвистнул и продолжал наблюдать.
Похоже, у этого, что держался ровно, болели зубы. К щеке его прирос какой-то бабий идиотский платок в маринованный зелёный горошек да ещё сверху перевязанный узелком. Как заячьи уши.
Стояли эти двое тоже как-то не по-людски, а друг к другу спиной. Они как бы не замечали один другого, как бы старались всем показать, что знать друг друга не знают и совсем друг другу не интересны.
Такая вот загадочная картинка.
Поначалу картинка была немой. Только глухо стукала шляпа, звякали об асфальт очки да с задержкой в четверть секунды до подворотни, откуда я наблюдал, долетало гулкое эхо.
Но что-то было ещё – какое-то бормотанье, чей-то голос, невнятный и шепелявый, скрывающийся за бубном очков и глухим барабаном шляпы. Чей только?
Я навёл на резкость глаза и увидел, как у первого шевелятся губы. Голос был определённо Лодыгина. Говорил он как бы в пространство, как бы беседовал сам с собой, а второй, стоящий к нему спиной, как бы его не слушал.
Не слушал-то он не слушал, только ухо его дёргалось, как укушенное, когда у первого шевелились губы. Потом проходило время, и первый, наговорившись, давал губам отдохнуть.
Тогда начинал другой. И всё менялось местами. Второй шевелил губами, а первый как бы его не слушал.
Сцена была удивительная. Эти двое стояли, пока не думая расходиться. Ветер трепал их пальто, ёжик на голове бесшляпого волновался, словно пряди Медузы, а в несчастную шляпу первого, когда она падала на асфальт, наметало палой листвы из садика на углу с переулком.
Тогда первый хватал свою шляпу и, словно библейский сеятель, расшвыривал их оттуда по сторонам.
Надо было что-то решать. Улица уже оживала, и ясно было, что долго этим двоим не выстоять.
6
– Господи, ну я-то в чём виновата! – сказала мама, Суламифь Соломоновна. – Снова валяешь дурака?
– Я репетирую, – сказал Женька и смычком уколол струну.
– Врёт, – сказал попугай с нагловатой попугайской улыбкой.
– Вижу я, как ты репетируешь. Это ж подумать – всё для него, себя ради него не жалею, а что взамен? Чёрная неблагодарность! «Я репетирую». Если б Ойстрах так репетировал, кем бы он стал? Ойстрахом? Водопроводчиком он бы стал. Тебе абсолютно не важно, что говорит мать. Меня ты не слушаешь. Но если я для тебя ничто, то хотя бы ради памяти твоего покойного дедушки не сиди сложа руки. Работай.
– Я не сижу. Я репетирую.
– Ну хорошо, ладно. Это хорошо, что ты трудишься. Ты ещё маленький и многого в жизни не понимаешь. И может так получиться, что, когда поймёшь, будет поздно. Так вот, чтобы не было поздно, ты должен меня во всём слушаться. Я твоя мать и плохого тебе не желаю. Как ты этого не понимаешь!
Глаза её стали влажными и коричневыми от заботы и от печали.
– Мама…
– Нет, ты не понимаешь. Пойми, у тебя способности. Ты сам не знаешь, что у тебя способности. А я