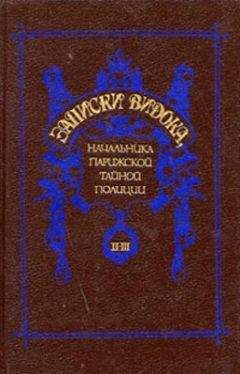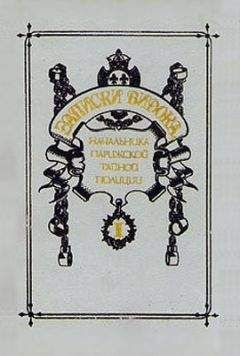И вот они сидят, пьют чай и вино. Женщина все время говорит, повторяя: "Сережа, Сережа..." Она рассказывает, как он не хотел заниматься в детстве музыкой - если он чего не хотел, то было не заставить, и как прогулял целых пятнадцать уроков. Она улыбается при слове "пятнадцать" и из глаз вдруг начинают катиться слезы. Это происходит на ее лице как будто совершенно независимо от всего остального, лицо улыбается, слезы катятся сами по себе она смахивает их и улыбается снова.
И так идет вечер - мужчина и женщина показывают фотографии и рассказывают, и теперь, кажется, гости знают о Сереже больше, чем друг о друге. И наконец, забрав библиотечные учебники, они прощаются, мужчина снова пожимает им руки, женщина, улыбаясь, говорит: "Приходите еще!", и спрашивает: "Придете?"
... Они молча идут к метро, и всем троим, кажется, что вряд ли они сюда придут, и, действительно, проходит месяц, профорг с головой уходит в работу на кафедре, комсорг собирается жениться. Леля в один из выходных отправляется с туристской секцией на сборы, и на привале после похода с хорошей нагрузкой, на расцвеченной желтым осенним солнцем лесной опушке, скинув рюкзак и заглядевшись в светло-голубое, чистое и прозрачное небо, думает, что женщина, спросив свое: "Придете?" была похожа на стеснительного ребенка, который, прося о чем-то очень важном, одновременно пытается изобразить, что в случае отказа не очень расстроится. И Леля думает, что надо туда пойти еще хоть один раз, и в тот же вечер звонит ребятам.
Они идут теперь уже вдвоем, комсоргу не вырваться из свадебных дел, они несут торт и вино, профорг нудит: "Ну, чего вот идем, и им лишний расход, тоже будут ставить...". "А ты столько не пей", - сосредоточенно рассматривая мелькающие носки сапожек, говорит Леля. И все повторяется - и торт, и вино, только нет уже ожидания в лице женщины, и со слезами она научилась справляться - она часто-часто моргает и отводит глаза. Разговор сначала плохо вяжется, а потом оказывается, что мужчина много выпил и профорг тоже. "Понимаешь, парень, один ведь сын", - всхлипывает мужчина и, качнувшись, встает к серванту за следующей бутылкой. Леля толкает под столом профорга, но тот не в состоянии откликнуться, щеки Лели горят от стыда, она идет на кухню, где женщина, наклонившись, протыкает палочкой пирог в духовке. Леля пытается бормотать: "Вы нас, пожалуйста, извините!", но женщина, выпрямившись, вдруг обнимает ее, вздрагивая полным телом, а когда отстраняется, из глаз опять бегут слезы. "Что ты, - говорит, смахивая их, женщина, - что ты..."
И они принимаются мыть и вытирать посуду, болтая о всяких пустяках, и во всех этих пустяках опять участвует Сережа. "Вкусную вы жарите картошку." - "Сережа тоже любил." - "Это Сережины слаломные в коридоре?" - "Его". И вот опять время уходить - женщина стоит в дверях, мужчина качается за ее спиной, Леля придерживает что-то бормочущего профорга.
"Приходите!" - опять просит женщина и в ответ на Лелин смущенный взгляд оглядывается на мужчину и, вздохнув, говорит: "Путь уж лучше дома..."
Теперь Леля уже все время помнит, что надо туда пойти. Ей представляется, как по обе стороны стола сидят мужчина и женщина и смотрят друг на друга, это не дает ей покоя.
Она говорим маме: "Пусть лучше будут все время люди". "Но также не может продолжаться вечно, - замечает мама. - Они должны привыкнуть без него". Но Леля упрямо мотает головой.
Она приходит одна, и улыбка женщины кажется ей не очень искренней и усталой. Они уже не говорят о Сереже, а только о чае, о торте, о рецепте какого-то печенья. Мужчина спохватывается - нет папирос, и отправляется за ними вниз, в ларек. Они остаются вдвоем, некоторое время молчат, наконец, женщина, кивнув на стул, где сидел мужчина, говорит: "У него в Кокчетаве еще семья. Он уходил от нас с Сережей, потом вернулся. Я тогда приняла..." Леля сначала не может взять в толк, потом спрашивает: "И дети?" "Дочка". "И что...он?" - поколебавшись, кивает на пустой стул Леля. "Четырнадцатый дочке, - вздыхает женщина. - Еще ой-ой, пока дойдет до дела..." Леля, нахмурившись, хочет что-то с возмущением сказать, но мужчина возвращается, включает хоккей, и Леля, посидев еще немного, начинает собираться. Женщина провожает ее молча, напоследок говорит: "Заходи". Она говорит это скорее равнодушно, мол - не придешь, ну и ладно. "Зайду", - кивает Леля и идет вниз, не оглянувшись на повороте.
Где они садились?
- Где они садились? - спрашиваю я, когда мы проезжаем вдоль вереницы машин у его завода.
- Кто? - спрашивают в ответ и он, и наш мальчик.
- Они, - со значением говорю я, и он, усмехаясь, понимает, а мальчик продолжает: "Ну, кто они-то?", и я отвечаю: "Папины хорошие друзья".
Я расшифровала все в тот же день, когда он приехал за нами на дачу не утром, а вечером, сказал, что сломалась машина, и я поначалу ругалась, что мог бы передать с соседями, а то сиди вот так и психуй. Накануне я как раз видела плохой сон, и это была пятница, а месяц назад у нас умер сорокалетний сосед, и я обрадовалась - сломалась машина. А вечером в городе был звонок, в трубку молчали, и я вдруг с ужасной злобой спросила: "Ну, что, будете говорить, нет?" И ничего, кажется, не сознавая, обернулась к нему: "Это кто звонил?", и по его не умеющему врать лицу сразу поняла - да, именно так, но он буркнул, что не имеет понятия. А потом мы сидели на диване, и я сказала: "Этого у нас еще не было - ну, говори". И он начал говорить дозами сначала, что попросили помочь с ремонтом, и я спросила только: "Как же ты мог?", встала и ушла в ванную.
Я выстирала все, что было грязного в доме, я стирала до половины второго, я думала только: "Вот, вот, как оно бывает!", потом пошла на кухню и села с газетой. Он лежал, не спал, я прочитала газету от корки до корки, вернулась, наконец, в комнату, сказала: "Ну, теперь давай говорить".
Я спрашивала, он отвечал, и паузы были по полчаса и после вопроса и после ответа. - И что ты думаешь делать? - спросила, наконец, я. - Сколько лет мы с тобой живем? - вздохнув, ответил он. - Это не имеет значения, замотала я головой и прибавила, что его общению с ребенком препятствовать не буду. И я впервые представила, как это все может быть, и меня затрясло, и он, наверное, тоже представил, потому что затрясло и его, и мы принялись говорить уже без пауз, а наутро он отнес книжки по вязанию и позвонил мне, сказал, что все.
И было ощущение приторно-сладкого, избитого театра, когда я говорила: "Ты уверен, что хочешь именно этого? Ты подумал?" и в том, что он звонил мне с работы чуть не каждый час. И больно было оттого, что в день приезда на дачу он выглядел моложе, в глазах у него что-то светилось, и он даже подошел раз к зеркалу, посмотрелся и сказал: "Нет никакого живота", а после той ночи он лет на десять постарел, и в глазах у него уже не светилось ничего. И я вспоминала, как мы собирали в тот день на даче шиповник, и он оживленно рассказывал, что женщины из его отдела говорят, что я тоже вяжу ему красивые свитера, и говорил еще, как тяжело приходится им, одиноким, как они мужественно делают сами ремонт и чинят на даче крышу, а вот есть другие женщины, для которых родная контора - дом, хохочут, поливаются духами, и с ними он не мог бы иметь никаких дел. И я, развесив уши, собирала с ним шиповник, виновато поглядывая на Ларису, вдову умершего соседа, которая собирала шиповник одна. И когда она спросила, не можем ли мы ее захватить, мы дружно и сокрушенно закачали головами: "Нет, уезжаем все, полная машина", и мне было еще стыднее, я представляла, как она долго готовилась, чтобы подойти и спросить.
И после была сумасшедшая неделя, он задерживался на бензоколонке, и я думала: "Вот и хорошо, все, надо разрубить, и конец!" "Ну, что мне теперь делать?" - восклицал он. - "Ну, очереди за бензином по километру, ну, пойди проверь!" А днем я не слушала, что там болтает мальчик про отметки, вкладыши и восточные единоборства, я смотрела в окно и хотела только выследить, чтобы выгнать, и никому не могла рассказать, а когда он приходил, вываливала все ему. Мне стало неинтересно ругаться и пилить, и было жалко, потому что исчезло что-то привычное, родное. Но все изменилось ночью, я сама удивлялась, отвечала ему, что, наверное, от жадности, и он смеялся и качал головой.
А потом мой отпуск кончился, и я закружилась в переводах, магазинах, тройках, которые нанес ребенок, и совсем перестала думать, но иногда только, очень остро - что этого уже не забыть. И также ярко я представляла, как он тогда садился в машину после работы, отъезжал, ждал, распахивал дверь и отбывал туда, где я никогда не была и не буду, чужая душа - потемки, и как я могу теперь сидеть с ним рядом и спокойно проезжать мимо на базар за картошкой?
- Так где же все-таки они садились?
- Не надо больше об этом думать, - говорит он.
- Ну, садились, ну и что? - в недоумении спрашивает наш ребенок.
Глаза женщин
Я еду в электричке, у меня скверное настроение. Я вспоминаю бестолково проведенный вчерашний день, затеянную неизвестно зачем перестановку мебели, вспоминаю, как, вспотев от натуги, передвинув шкаф с диваном, мы с мужем долго стояли и смотрели, и по-новому тоже выходило нелепо и безвкусно. Я вспоминаю нежданно-негаданно заявившихся при этом неинтересных гостей, развал и смятение в доме, неслышную гостям, но яростную ссору в кухне, раздражение и сознание бессмысленности всех своих начинаний, безвозвратно и напрасно уходящего времени. Как это глупо и зачем это все нужно? - думаю я, вспоминая вечные домашние хлопоты, и представляю, что вот, приеду сейчас и на работе тоже буду сортировать бумажки, и так каждый день, и сколько еще таких дней впереди.