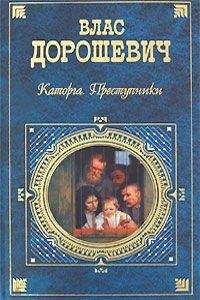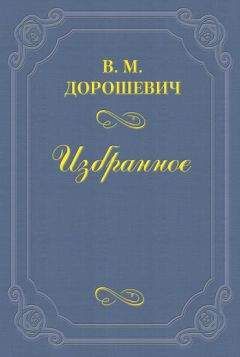А то просто перепродается сама записка. Записки ходят как ассигнации. Бывают даже подложные!
На эти записки чиновники покупают у поселенцев соболей – по записке за шкуру, – этими записками платят за поставленные продукты, за сделанные работы.
В сущности, таким образом они получают все даром, предоставляя только поселенцам возможность заниматься торговлей водкой и спаивать каторгу.
Смотритель поселений Бестужев, лично для себя не применявший этого «порядка», как я уже говорил, пробовал зато применить этот «порядок» к казенным работам.
Он быстро построил, без копейки денег, церковь, школу, мастерские, дом для приезжающих чиновников, – за все расплачиваясь записками.
Он рассуждал так:
– Если господа служащие делают так, почему же не делать казне? Пусть уж лучше в казенный карман идет, чем в карманы господ служащих.
Совершенно забывая, что «quod l icet bovi – non l icet Iove».
К сожалению, изобретательный финансист не рассчитал одного.
Что с появлением на «рынке» массы записок цена на них упадет.
Так и случилось.
Работавшие поселенцы разорились вконец: думая получить за записки рубли, они получили гроши.
Среди нищенствующих в Корсаковске пришлых поселенцев мне много приходилось встречать жертв этой оригинальной финансовой затеи.
Я не стану уже говорить о влиянии этой «спиртовой системы» на нравственность поселенцев.
За спирт в Корсаковске продается и покупается все – до сожительницы или дочери включительно.
Но какое же уважение может иметь каторга к чиновникам, даром покупающим ее труд, и чиновникам, торгующим спиртом?
А на Сахалине так много говорят о необходимости поддерживать престиж.
– Каторга распускается! Становится дерзка, непослушна!
Как будто «престиж» создается и поддерживается одними наказаниями.
Бирич – мой сосед по комнате. Он живет у того же ссыльнокаторжного Пищикова, у которого остановился и я.
Он – компаньон одного из крупных рыбопромышленников и ужасно любит говорить о том, какие огромные убытки он терпит благодаря дурной погоде.
– Помилте-с. Законтрактованные пароходы с японцами-с не идут. Тут каждый день дорог-с. Не нынче – завтра селедка пойдет. Ведь это мне тысячными убытками пахнет-с. Ведь я тысячи могу потерять-с.
Он ужасно любит подчеркнуть это слово – «тысячи».
Бирич – человек средних лет, маленький, невзрачный, одет не без претензии на франтовство, по жилету «пущена» цепь, на которую смело можно бы привязать не часы, а собаку.
Ото всей его особы ужасно веет не то штабным писарем, не то фельдшером, «вышедшим в люди».
Так оно впоследствии и оказалось.
При встрече, при прощанье он обязательно по нескольку раз жмет вам руку, словно это доставляет ему особое удовольствие – здороваться за руку.
Когда «заложит за галстук» – а это с ним случается часто, – Бирич становится особенно невыносим своей назойливостью и необыкновенной развязностью.
Он является без спроса, говорит без умолку и в разговоре принимает позы одна свободнее другой.
Собственно говоря, он даже не столько говорит, сколько позирует.
То раскинется на стуле и заложит ногу за ногу так, что они у него чуть не на столе. То встанет и поставит ногу на стул.
«Вот человек, который стремится к тому, чтобы ноги у него были непременно выше головы», – думал я, улыбаясь про себя.
То он хлопнет вас по колену. То возьмет за борт сюртука. То бросит свой окурок в ваше блюдечко.
И все это решительно без всякой надобности, просто, словно он каждую минуту хочет доказать вам, что он с вами на равной ноге и может вести себя непринужденно.
Эта мысль словно тешит его, доставляет ему невыразимое наслаждение.
Когда подопьет, Бирич особенно яростно принимается ругать ссыльнокаторжных.
Это, кажется, его главное занятие.
Право, с первого раза можно подумать, что у человека перерезали целую семью. Такая глубокая, непримиримая, яростная ненависть.
Бирич явился ко мне, прежде чем я даже успел устроиться в своей комнатке.
Несколько раз пожал мою руку, заявил, что очень рад «знакомству с образованным человеком», с первого же абцуга объявил мне, что у него жена институтка[14] и живет на рыбных промыслах, рассказал про свои «тысячные убытки» и вызвался быть моим ментором.
– Я Сахалин как свои пять пальцев знаю. Вы только меня слушайте. Я вам все покажу. Увидите, что это за мерзавцы, за негодяи.
Когда Бирич говорит о каторге, он даже забывает прибавлять слово «ерик», которое прибавляет обыкновенно чуть не за каждым словом. До того его разбирает злость!
– Вы хорошенько их, негодяев, распишите! Чтобы знали, что это за твари! Распущены – ужас! Еще бы! Деликатничают с ними! «Жалеют» мерзавцев! Их жалеть! Драть их, негодяев, надо! Вот прежде господин Ливин был смотрителем или Ярцев-покойник, царство ему небесное, – драли их, – тогда и была каторга. А теперь – помилуйте! Какая это каторга? Разве это каторга? Издевательство над законом – и больше ничего.
– Да вы что… может быть, не потерпели ли через них какого-нибудь убытка? Может быть, работали они у вас?
Бирич даже вспыхнул весь.
– Я? Да чтоб с ними? Да спасет меня Господь и помилует!
Чтоб с этим народом имел дело?! Да в петлю лучше! Нет, у меня японцы – никого, кроме японцев, – помилуйте, разве можно с ними? Я в прошлом году попробовал было взять поселенцев – подряд у меня был на железную дорогу, на шпалы, – так жизни не был рад. Это такие негодяи, такие мерзавцы…
И т. д., и т. д., и т. д. Становилось тошно слушать, а отделаться от Бирича было невозможно.
Нравилось ему, что ли, со мной везде показываться, но только Бирич не отставал от меня ни на шаг.
Иду по делу, гулять – Бирич как тень. В каторжный театр пошел – Бирич и тут увязался, за место в первом ряду заплатил.
– Посмеемтесь! Нет, каковы твари, а? Будний день, а у них театры играют.
– Да ведь Пасха теперь.
– Для каторжных Пасха – три дня. По-настоящему бы один день надо, да уж так распустили, свободу дают. А они, негодяи, целую неделю. А? Как вам покажется? И это каторга? Поощрение мерзавцев, а не каторга. Жрут, пьют, ничего не делают, никаких наказаний для них нет…
В конце концов меня даже сомнение начало разбирать.
– Что-то ты, братец, уж очень каторгу ругать стараешься?
Странновато что-то…
Идем мы как-то с Биричем по главной улице, как вдруг из-за угла, неожиданно, лицом к лицу, встретился с нами начальник округа.
Бирич моментально отскочил в сторону, словно электрическим током его хватило, и не снял, а сдернул с головы фуражку.
Нет! Этого движения, этой манеры снимать шапку не опишешь, не изобразишь.
Она вырабатывается годами каторги, поселенчества и не изглаживается потом уж никогда.
По одной манере снимать шапку перед начальством можно сразу отличить бывшего ссыльнокаторжного в тысячной толпе.
Хотя бы со времени его каторги прошел десяток лет, и он пользовался бы уже всеми «правами».
Вся прошлая история каторги в этом поклоне – то прошлое, когда зазевавшемуся или не успевшему при встрече снять шапку каторжному говорили:
– А пойди-ка, брат, в тюрьму. Там тебе тридцать дадут.
Начальник округа прошел.
Бирич почувствовал, что я понял все, и сконфуженно смотрел в сторону.
Неловко было и мне.
Мы прошли несколько шагов молча.
– Много мне пришлось здесь вытерпеть, – тихо, со вздохом сказал Бирич.
Я промолчал.
Вплоть до дома мы прошли молча.
А вечером, «заложив за галстук», Бирич снова явился в мою комнату и принялся нещадно ругать каторгу. Только уже теперь он прибавлял:
– Разве мы то терпели, что они терпят? Разве мы так жили, как они теперь живут? А за что, спрашивается? Разве мы грешнее их, что ли?
И вся злоба, вся зависть много натерпевшегося человека к другим, которые не терпят «и половины того», сказывались в этих восклицаниях, вырвавшихся из «нутра» полупьяного Бирича.
Как я узнал потом, он – из фельдшеров, судился за отравление кого-то, отбыл каторгу, поселенчество, теперь не то крестьянин, не то уж даже мещанин, всеми правдами и неправдами скопил копейку и кулачит на промыслах.
Каторга его терпеть не может, ненавидит и презирает как «своего же брата».
Никогда и никто так не прижимал поселенцев, как Бирич, когда они работали у него по поставке шпал.
Таков Бирич.
Его мелкая фигурка не стоила бы, конечно, и малейшего внимания, если бы его отношение к каторге не было типичным отношением бывших каторжников к теперешним. Это брезгливое отношение вылезших из грязи к тем, кто тонет еще в этой грязи.
Сколько я не видел потом на Сахалине мало-мальски разжившихся бывших каторжников, все они говорили о каторге злобно, недоброжелательно.
Не иначе.
У более интеллигентных и воспитанных, конечно, это высказывалось не в такой грубой форме, как у Бирича. Но недоброжелательство звучало в тоне и словах.