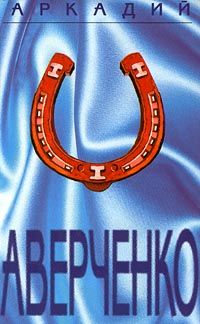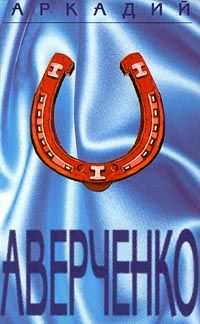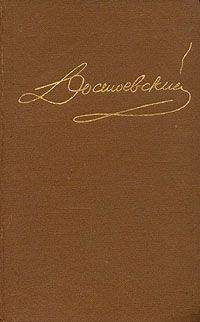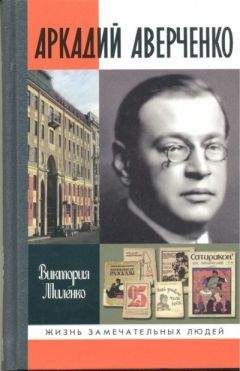Огромный человеческий русский муравейник „хлопочет“.
Никакой никому от этого пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопотать: бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут.
Хорошо бы это все взять да изменить…
Нужно будет похлопотать об этом».
— За что? Чем я хуже других?
Недавно в Думе какой то депутат сказал речь, приблизительно, следующего содержания:
— Я не говорю, что нужно бить инородцев, вообще… Поляков, литовцев и татар можно и не бить. Но евреев бить можно и нужно — я удивляюсь, как этого не понимают!?[3]
Тогда же многие заинтересовались — как, каким образом, депутат мог додуматься до сказанного им.
Многие изумлялись:
— Что это такое? Как человеческая голова может родить подобную мысль?
Вот как:
Однажды депутат не пошел в Думу, а остался дома и сидел в кабинете, злой, угрюмый, раздражительный.
— Что с тобой? — спросила жена.
— Речь бы мне нужно сказать в Думе. А Речи нету.
— Так ты придумай, — посоветовала жена.
— Да как же придумай! Вот сижу уже третий час, стараюсь, как ломовая лошадь, а голова все не думает!
— Удивительно! Как же это человеческая голова может не думать?
— Да так вот. Вот сижу и твержу сам себе: ну, думай же, черт тебя возьми… Придумывай речь. Ну! И тут же глядишь на обои — думаешь: какие красивые красные цветочки! Или на стол посмотришь: хороший, мол, стол. Дубовый… Двести рублей за него плачено. Тут же сам себя и поворачиваешь: да ты о речи лучше думай! И думаешь: «Речь» — газета такая есть. Кадетская. Речь… Можно иначе сказать — разговор. Только речь короче — в ней четыре буквы, а в разговоре девять… Речь!! Имя существительное… Тьфу!
— А самой речи не выходит?
Депутат скорбно заморгал глазами:
— Не выходит. Не думается.
— А голова то у тебя большая, — сказала задумчиво жена, смотря на мужа. — Тяжелая. С чего бы?
— Да черт ли в ней, что большая! Чего не надо — то она думает: о цветочках там, о столе. А как к речи обернешься — стоп, анафемская. Молчит.
— А ты поболтай ею так! Пошибче… Может, мозги застоялись.
Депутат покорно поболтал головой.
— Ну?
— Ничего. Молчит. Вот в окно сейчас посмотрелось и подумалось: что, если у того дома крышу снять — смешно будет или не смешно? Должно, смешно и странно.
Жена вздохнула и вышла из комнаты.
— Тише! — крикнула она детям. — Не мешайте папе. Ему не хорошо.
— А что с ним? — спросили дети.
— Голова молчит.
А в кабинете сидел отец опечаленных малюток, тряс тяжелой головой и бешено шипел:
— Да думай же, анафемская! Думай, проклятая.
К обеду вышел еще более злой, с растрепанными волосами и мутными остановившимися глазами.
Проходя в дверь, злобно стукнул головой о косяк и заревел:
— Будешь ты думать? Вот тебе! Думай, думай.
Дети испугались. Заплакали.
— Что это он, мама?
— Не бойтесь. Это он голову разбудить хочет. Голова у него заснула.
После обеда несчастный депутат снова перешел в кабинет. Повернулся спиной к столу, к обоям, закрыл глаза.
Жена подходила, прислушивалась. Все безмолвствовало.
Около семи часов из кабинета послышался легкий стук и потом шорох, будто кто нибудь перебирал камушки.
— Слава Богу! — перекрестилась жена. Кажется, задумал.
Из кабинета доносилось легкое потрескивание, шорох и скрип.
— Что это скрипит, мама? — спрашивали дети, цепляясь за юбку матери.
— Ничего, милые. Не бойтесь. Это папа думает.
— Тяжело, небось? — в ужасе, широко открыв глаза, спросил малютка Ваня.
— А ты как полагаешь!.. Никогда в роду у нас этого не было. Чтобы думать.
Депутат стоял на трибуне.
— Говорите же! — попросил председатель. — Чего ж вы молчите?
— Сейчас, сейчас, — тяжело дыша, прошептал депутат. — Дайте начать. О, чем бишь я хотел…
На лбу надулись черные жилы. Теплый пот струился по лицу, скатываясь за воротник. Ну, же! Скорее.
— Сейчас, сейчас.
Глаза вылезли из орбит. Голова качнулась на шее, вздрогнула… послышался явственный треск, лязг и потом шорох, будто бы где то осыпалась земля или рукой перебирали камушки. Что то затрещало, охнуло… депутат открыл рот и с усилием проревел:
— Я не говорю, что нужно бить инородцев, вообще. Поляков, литовцев и татар можно и не бить… Но евреев бить можно и нужно — я удивляюсь, как этого не понимают!
Вот — откуда взялась эта речь.
Однажды, развернув газету, бросил я на нее беглый взгляд, и сердце мое похолодело: мне показалось, что увидел я перед собой зияющую сырую отвратительную могилу, в которой мне придется пролежать до скончания веков.
Передовая газеты трактовала о «темных деньгах в союзе русского народа», другая статья заключала в себе благородное негодование по поводу непристойной выходки Пуришкевича с письмом Гучкову… Обозрение газет началось с таких строк:
— Иудушка Меньшиков скоро предложит просто взять, да и перебить всех евреев! По крайней мере, в последнем фельетоне он как будто намекает на это…
А «маленький фельетон» (написанный журналистом с большим, от Бога ниспосланным, дарованием) назывался:
— «Новые откровения Маркова 2-го».
Это было год тому назад. Это было три года тому назад. Это будет через год. Не окончится оно и через три года. У меня явилось сильное желание закричать, завопить, вертясь волчком, наброситься на прохожих и искусать их.
Я чувствовал, что при слове «Пуришкевич» могу перервать сказавшему это слово глотку, а понятия «Гучков» и «Марков» делали меня больным изнурительной морской болезнью…
А в голове раскачивалась мысль:
— Так может продолжаться еще три года… И еще пять лет! И еще восемь лет!
Российская песня пелась на испорченной пластинке граммофона: на спирали стерлась зарубка и игла без исхода попала на одну и ту же окружность, и визжит без конца одни и те же пол-такта…
И пошел я к товарищам журналистам и сказал:
— Товарищи журналисты! Ведь вам скучно, противно, ведь вы с холодным отвращением пишете фельетоны и статьи о Пуришкевиче, Маркове 2-м, Меньшикове, Гучкове и других… Ведь это все людишки жалкие, мизерные, недостойные, в сущности, и одного фельетона в пятьдесят строк?!.
Тогда заплакали все и сказали:
— Правда!
— Давайте сразу вырвем этот отвратительный больной зуб. Давайте сразу утопим их: Пуришкевичей, и Марковых, и других…
Если бы кто нибудь видел свирепую радость журналистов, их отверстые хохочущее рты, их сверкающие глаза!
— В реку их! Топить, как ненужных щенят!!
И каждый схватил по Пуришкевичу, по Меньшикову, и с веселым улюлюканьем, порсканьем и гиком помчались все к реке.
На полдороге кто-то радостно засмеялся и сказал:
— То-то вздохнем свободно!.. То-то красивая жизнь настанет!
— Да здравствует свободное творчество!
Пуришкевичи и Меньшиковы боролись, визжали, но их крепко держали за затылки и, подбежав к реке, с криком пошвыряли в холодную воду.
— На дно! Ступайте к ракам на обед! Туда вам и дорога!
Один журналист стоял у берега и задумчиво, безмолвно смотрел на круги, расходящиеся по воде. Потом обернулся к веселым братьям и сумрачно спросил:
— Ну, Марковых и Пуришкевичей мы утопили… Хорошо-с. А о чем же мы писать будем? О чем нам писать можно?
Все притихли. Открыли рты. Подумали.
Потом побледнели.
— Ах, черт возьми…
Через десять минут большинство журналистов поснимав верхнюю одежду, бродили в воде и вылавливали Пуришкевичей. Некоторые ныряли за тяжелыми, налитыми, как свинец, Марковыми и, поймав их, швыряли на берег.
— Держите, товарищи!
На берегу сидел вытащенный из воды мокрый, облипший Пуришкевич и, отплевываясь, мрачно ругался:
— Черти! Топите нас! Делают все так: с-бухта-барахта… Чем у вас головы набиты?
— Да-с, — язвил покрытый тиной и грязью Меньшиков. — Они уж такие: сначала сделают, а потом думают.
— Тоже нынче, — хрипел Марков, — не очень расшвыряешься Марковыми! Тоже это понять бы нужно.
Журналисты, столпившись около них, угрюмо слушая эти разговоры.
Потом, когда Пуришкевичи и Марковы немного обсохли, — толкнули их бедные журналисты ногами, и, подняв, погнали обратно в город:
— Идите уж, что ли… У-у… Нету на вас пропасти!!.
Купец Пуд Исподлобьев, окончив обед, отодвигал тарелку, утирал салфеткой широкую рыжую бороду, откидывался на спинку стула, ударял ладонью по столу и кричал:
— Чтоб они пропали, чертово семя! Чтоб они заживо погнили все! Напустить бы на них холеру какую-нибудь или чуму, чтоб они поколели все!!