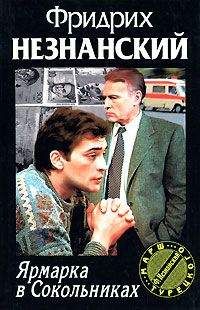Шёпот и поцелуи за забором волновали его. Он вышел на средину двора и, расстегнувши на груди рубаху, глядел на луну, и ему казалось, что он сейчас велит отпереть калитку, выйдет и уже более никогда сюда не вернется; сердце сладко сжалось у него от предчувствия свободы, он радостно смеялся и воображал, какая бы это могла быть чудная, поэтическая, быть может, даже святая жизнь…
Но он всё стоял и не уходил, и спрашивал себя: «Что же меня держит здесь?» И ему было досадно и на себя, и на эту черную собаку, которая валялась на камнях, а не шла в поле, в лес, где бы она была независима, радостна. И ему, и этой собаке мешало уйти со двора, очевидно, одно и то же: привычка к неволе, к рабскому состоянию…
На другой день в полдень он поехал к жене и, чтобы скучно не было, пригласил с собой Ярцева. Юлия Сергеевна жила на даче в Бутове, и он не был у нее уже пять дней. Приехав на станцию, приятели сели в коляску, и Ярцев всю дорогу пел и восхищался великолепною погодой. Дача находилась недалеко от станции в большом парке. Где начиналась главная аллея, шагах в двадцати от ворот, под старым широким тополем сидела Юлия Сергеевна, поджидая гостей. На ней было легкое изящное платье, отделанное кружевами, платье светлое кремового цвета, а в руках был всё тот же старый знакомый зонтик. Ярцев поздоровался с ней и пошел к даче, откуда слышались голоса Саши и Лиды, а Лаптев сел рядом с ней, чтобы поговорить о делах.
— Отчего ты так долго не был? — спросила она, не выпуская его руки. — Я целые дни всё сижу здесь и смотрю: не едешь ли ты. Мне без тебя скучно!
Она встала и рукой провела по его волосам, и с любопытством оглядывала его лицо, плечи, шляпу.
— Ты знаешь, я люблю тебя, — сказала она и покраснела. — Ты мне дорог. Вот ты приехал, я вижу тебя и счастлива, не знаю как. Ну, давай поговорим. Расскажи мне что-нибудь.
Она объяснялась ему в любви, а у него было такое чувство, как будто он был женат на ней уже лет десять, и хотелось ему завтракать. Она обняла его за шею, щекоча шелком своего платья его щеку; он осторожно отстранил ее руку, встал и, не сказав ни слова, пошел к даче. Навстречу ему бежали девочки.
«Как они выросли! — думал он. — И сколько перемен за эти три года… Но ведь придется, быть может, жить еще тринадцать, тридцать лет… Что-то еще ожидает нас в будущем! Поживем — увидим».
Он обнял Сашу и Лиду, которые повисли ему на шею, и сказал:
— Кланяется дедушка… дядя Федя скоро умрет, дядя Костя прислал письмо из Америки и велит вам кланяться. Он соскучился на выставке и скоро вернется. А дядя Алеша хочет есть.
Потом он сидел на террасе и видел, как по аллее тихо шла его жена, направляясь к даче. Она о чем-то думала и на ее лице было грустное, очаровательное выражение, и на глазах блестели слезы. Это была уже не прежняя тонкая, хрупкая, бледнолицая девушка, а зрелая, красивая, сильная женщина. И Лаптев заметил, с каким восторгом смотрел ей навстречу Ярцев, как это ее новое, прекрасное выражение отражалось на его лице, тоже грустном и восхищенном. Казалось, что он видел ее первый раз в жизни. И когда завтракали на террасе, Ярцев как-то радостно и застенчиво улыбался и всё смотрел на Юлию, на ее красивую шею. Лаптев следил за ним невольно и думал о том, что, быть может, придется жить еще тринадцать, тридцать лет… И что придется пережить за это время? Что ожидает нас в будущем?
И думал:
«Поживем — увидим».
— Я просил вас не убирать у меня на столе, — говорил Николай Евграфыч. — После ваших уборок никогда ничего не найдешь. Где телеграмма? Куда вы ее бросили? Извольте искать. Она из Казани, помечена вчерашним числом.
Горничная, бледная, очень тонкая, с равнодушным лицом, нашла в корзине под столом несколько телеграмм и молча подала их доктору; но всё это были городские телеграммы, от пациентов. Потом искали в гостиной и в комнате Ольги Дмитриевны.
Был уже первый час ночи. Николай Евграфыч знал, что жена вернется домой не скоро, по крайней мере часов в пять. Он не верил ей и, когда она долго не возвращалась, не спал, томился, и в то же время презирал и жену, и ее постель, и зеркало, и ее бонбоньерки, и эти ландыши и гиацинты, которые кто-то каждый день присылал ей и которые распространяли по всему дому приторный запах цветочной лавки. В такие ночи он становился мелочен, капризен, придирчив, и теперь ему казалось, что ему очень нужна телеграмма, полученная вчера от брата, хотя эта телеграмма не содержала в себе ничего, кроме поздравления с праздником.
В комнате жены на столе, под коробкой с почтовой бумагой, он нашел какую-то телеграмму и взглянул на нее мельком. Она была адресована на имя тещи, для передачи Ольге Дмитриевне, из Монте-Карло, подпись: Michel… Из текста доктор не понял ни одного слова, так как это был какой-то иностранный, по-видимому, английский язык.
— Кто этот Мишель? Почему из Монте-Карло? Почему на имя тещи?
За время семилетней супружеской жизни он привык подозревать, угадывать, разбираться в уликах, и ему не раз приходило в голову, что благодаря этой домашней практике из него мог бы выйти теперь отличный сыщик. Придя в кабинет и начавши соображать, он тотчас же вспомнил, как года полтора назад он был с женой в Петербурге и завтракал у Кюба с одним своим школьным товарищем, инженером путей сообщения, и как этот инженер представил ему и его жене молодого человека лет 22–23, которого звали Михаилом Иванычем; фамилия была короткая, немножко странная: Рис. Спустя два месяца доктор видел в альбоме жены фотографию этого молодого человека с надписью по-французски: «на память о настоящем и в надежде на будущее»: потом он раза два встречал его самого у своей тещи… И как раз это было то время, когда жена стала часто отлучаться и возвращалась домой в четыре и пять часов утра, и всё просила у него заграничного паспорта, а он отказывал ей, и у них в доме по целым дням происходила такая война, что от прислуги было совестно.
Полгода назад товарищи-врачи решили, что у него начинается чахотка, и посоветовали ему бросить всё и уехать в Крым. Узнавши об этом, Ольга Дмитриевна сделала вид, что это ее очень испугало; она стала ласкаться к мужу и всё уверяла, что в Крыму холодно и скучно, а лучше бы в Ниццу, и что она поедет вместе и будет там ухаживать за ним, беречь его, покоить…
И теперь он понимал, почему жене так хочется именно в Ниццу: ее Michel живет в Монте-Карло.
Он взял английско-русский словарь и, переводя слова и угадывая их значение, мало-помалу составил такую фразу: «Пью здоровье моей дорогой возлюбленной, тысячу раз целую маленькую ножку. Нетерпеливо жду приезда». Он представил себе, какую бы смешную, жалкую роль он играл, если бы согласился поехать с женой в Ниццу, едва не заплакал от чувства обиды и в сильном волнении стал ходить по всем комнатам. В нем возмутилась его гордость, его плебейская брезгливость. Сжимая кулаки и морщась от отвращения, он спрашивал себя, как это он, сын деревенского попа, бурсак по воспитанию, прямой, грубый человек, по профессии хирург — как это он мог отдаться в рабство, так позорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданию?
— Маленькая ножка! — бормотал он, комкая телеграмму. — Маленькая ножка!
От того времени, когда он влюбился и сделал предложение и потом жил семь лет, осталось воспоминание только о длинных душистых волосах, массе мягких кружев и о маленькой ножке, в самом деле очень маленькой и красивой; и теперь еще, казалось, от прежних объятий сохранилось на руках и лице ощущение шелка и кружев — и больше ничего. Ничего больше, если не считать истерик, визга, попреков, угроз и лжи, наглой, изменнической лжи… Он помнил, как у отца в деревне, бывало, со двора в дом нечаянно влетала птица и начинала неистово биться о стекла и опрокидывать вещи, так и эта женщина, из совершенно чуждой ему среды, влетела в его жизнь и произвела в ней настоящий разгром. Лучшие годы жизни протекли, как в аду, надежды на счастье разбиты и осмеяны, здоровья нет, в комнатах его пошлая кокоточная обстановка, а из десяти тысяч, которые он зарабатывает ежегодно, он никак не соберется послать своей матери-попадье хотя бы десять рублей и уже должен по векселям тысяч пятнадцать. Казалось, если бы в его квартире жила шайка разбойников, то и тогда бы жизнь его не была так безнадежно, непоправимо разрушена, как при этой женщине.
Он стал кашлять и задыхаться. Надо было бы лечь в постель и согреться, но он не мог, и всё ходил по комнатам или садился за стол и нервно водил карандашом по бумаге, и писал машинально:
«Проба пера… Маленькая ножка»…
К пяти часам он ослабел и уже обвинял во всем одного себя, ему казалось теперь, что если бы Ольга Дмитриевна вышла за другого, который мог бы иметь на нее доброе влияние, то — кто знает? — в конце концов, быть может, она стала бы доброй, честной женщиной; он же плохой психолог и не знает женской души, к тому же неинтересен, груб…