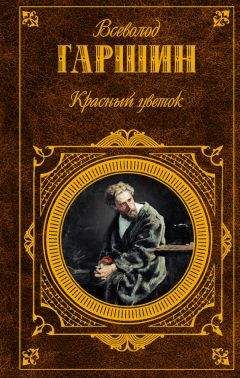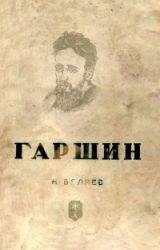– Да, да, да! – прокричал он вслух, каждый раз злобно надавливая кулаком на край стола. – Нужно же, наконец, выбраться из путаницы. Узел завязан так, что не развяжешь: нужно разрубить его. Зачем только было тянуть, надрывать себе душу, и без того изорванную в отрепье? Зачем было, раз решившись, сидеть истуканом с восьми часов вечера до сих пор?
И он стал торопливо вытаскивать из бокового кармана шубы револьвер.
Он действительно сидел на одном месте с восьми часов вечера до трех ночи.
В семь часов вечера этого последнего дня его жизни он вышел из своей квартиры, нанял извозчика, уселся, сгорбившись, на санях и поехал на другой конец города. Там жил его старый приятель, доктор, который, как он знал, сегодня вместе с женою отправился в театр. Он знал, что не застанет дома хозяев, и ехал вовсе не для того, чтобы повидаться с ними. Его, наверно, впустят в кабинет, как близкого знакомого, а это только и было нужно.
«Да, наверно, впустят, скажу, что надо написать письмо. Как бы только Дуняша не вздумала торчать при мне в кабинете…»
– Ну, дядя, поезжай скорее! – крикнул он извозчику.
Извозчик, – маленький, с сгорбленной старческой спиной, очень худой шеей, обмотанной цветным шарфом, вылезавшим из очень широкого воротника, и с изжелта-седыми кудрями, выступавшими из-под огромной круглой шапки, – чмокнул, задергал вожжами, еще раз чмокнул и торопливо заговорил разбитым голосом:
– Доставим, батюшка, не сомневайтесь, ваше благородие. Но, но!.. Ишь, баловница! Эка лошадь, прости господи! Но! – Он хлестнул ее кнутом, на что она ответила легким движением хвоста. – Я и рад угодить, да лошадку-то хозяин дал… просто такая уж… Обижаются господа, что тут будешь делать! А хозяин говорит: ты, говорит, дедушка, стар, так вот тебе и скотинка старая. Ровесники, говорит, будете. А ребята наши смеются. Рады глотки драть; им что? Известно, разве понимают?
– Не понимают? – спросил седок, в это время думавший о том, как бы не впустить Дуняшу в кабинет.
– Не понимают, ваше благородие, не понимают, где им понять! Глупые они, молодые. У нас во дворе один я старик. Разве можно старика забиждать? Я восьмой десяток на свете живу, а они зубы скалят. Двадцать три года солдатом служил. . . Известно, глупые… Ну, старая! Застыла!
Он опять хлестнул лошадь кнутом, но так как она не обратила на удар никакого внимания, то прибавил:
– Что с ей сделаешь: тоже уж двадцать первый год, должно, пошел. Ишь, хвостом трясет…
На освещенном циферблате часов, поставленных в одном из окон огромного здания, стрелки показывали половину восьмого.
«Уехали уж, должно быть, – подумал седок про доктора с женой. – А может быть, и нет еще…»
– Дедушка, не гони, пожалуй! Поезжай потише: мне торопиться некуда.
– Известно, батюшка, некуда, – обрадовался старик. – Так-то лучше, потихоньку. Но, старая!
Ехали некоторое время молча. Потом старик осмелел.
– Ты вот мне что, барин, скажи, – вдруг заговорил он, обернувшись к седоку, причем показал свое сморщенное в кулачок лицо с жиденькой седой бородкой и красными веками, – откуда этакая напасть на человека? Был извозчик у нас, Иваном звали. Молодой, годов ему двадцать пять, а то и меньше. И кто его знает, с чего, с какой такой причины, наложил на себя парень руки?
– Кто? – тихо и хрипло спросил седок.
– Да Иван-то, Иван Сидоров. В извозчиках у нас жил. Веселый был парень и работящий, прямо тебе скажу. То есть вот какой! Ну вот, в понедельник, поужинали мы, легли спать. А Иван не ужинавши лег. Голову, говорит, ломит. Спим это мы, а он ночью встал и ушел. Только что никто этого не видел. Пошли утром закладывать, а он в конюшне на гвозде. Сбрую с гвоздя снял, возле положил – веревку прицепил… Ах ты господи! Так это тогда, словно бы по сердцу. И что этому за причина, чтобы извозчик повесился? Как можно это, чтобы извозчику вешаться! Дивное дело!
– Отчего же? – спросил седок, откашлявшись и дрожащими руками плотнее завертываясь в шубу.
– Мыслей этих самых нет у него, у извозчика. Работа тяжелая, трудная: утром, ни свет ни заря, закладывай – да со двора. Известно, мороз, холод. Тут ему только бы в трактире погреться да выручку исправить, чтобы вполне два двадцать пять, да на квартиру – и спи. Тут думать трудно. Вот вашему брату, барину, ну, вам, известно, всякое в голову лезет с пищи с этой.
– С какой такой пищи?
– С хлебов с легких. Потому встанет барин, наденет халат, чайку попьет и давай по комнате ходить. Ходит, а грех-то вокруг. Видал я тоже, знаю. В полку было у нас, в Тенгинском, – на Кавказе служил тогда, – барин был, поручик князь Вихляев; в денщики меня к нему отдали…
– Стой, стой! – вдруг заговорил седок. – Вот сюда, к фонарю. Я тут уж пешком.
– Как угодно; пешком, так пешком. Благодарствуйте, ваше благородие.
Извозчик повернул и исчез в метели, которая разыгрывалась, а седок пошел понурою походкою вперед. Через десять минут, поднявшись в третий этаж средней руки парадной лестницы, он позвонил у двери, обитой зеленым сукном и украшенной медною, ярко отчищенною дощечкою. Бесконечно долго тянулись для него несколько минут, пока не отворились двери. Тупое забытье охватило его; все исчезло: и мучительное прошлое, и болтовня подвыпившего старика, так странно кстати пришедшаяся и заставившая его дойти пешком, и даже намерение, с каким он явился сюда. Перед глазами была только зеленая дверь с черными тесемками, прибитыми бронзовыми гвоздиками, да и во всем мире была только одна она.
– Ах, Алексей Петрович!
Это Дуняша отворила дверь со свечой в руках.
– А барин с барыней сейчас уехали; только-только с лестницы сошли. Как это вы не встретили?
– Уехали? Экая досада, право! – солгал он таким странным голосом, что на лице смотревшей ему в глаза Дуняши выразилось недоумение. – А мне ведь нужно было. Слушайте, Дуняша, я сейчас в кабинет к барину на одну минуту… Можно? – спросил он даже робким голосом. – Я сейчас, только записку… дело такое…
Он убедительно, с просьбой в глазах смотрел на нее, не раздеваясь и не двигаясь с места. Дуняша сконфузилась.
– Да что это вы, Алексей Петрович, разве я когда-нибудь… не в первый раз! – обиженно сказала она. – Пожалуйте.
«В самом деле, зачем все это, зачем я все это говорю? Она идет-таки за мною. Услать нужно. Куда ее ушлешь? Догадается, наверно догадается; даже уж теперь догадалась».
Дуняша ни о чем не догадывалась, хотя была до крайности удивлена странным видом и поведением гостя. Она оставалась одна в целой квартире и была рада побыть хоть пять минут с живым человеком. Поставив свечу на стол, она стала у дверей.
«Уйди ты, уйди, ради бога», – мысленно взывал к ней Алексей Петрович.
Он сел к столу, взял листок бумаги и начал придумывать, что бы написать, чувствуя на себе взгляд Дуняши, который, как ему казалось, читал его мысли.
«Петр Николаевич, – писал он, останавливаясь после каждого слова, – я был у тебя по очень важному делу, которое. ..»
– Которое, которое, – шептал он, – а она все стоит и стоит. – Дуняша! Подите, принесите мне стакан воды, – вдруг громко и резко проговорил он.
– Извольте, Алексей Петрович.
Она повернулась и вышла.
Тогда гость поднялся со стула и на цыпочках быстро пошел к дивану, над которым доктор повесил револьвер и саблю, служившие ему в турецком походе. Он ловко и проворно отстегнул клапан кобуры, выхватил из нее револьвер и сунул его в боковой карман шубы, потом достал из мешочка, пришитого к кобуре, несколько патронов и тоже сунул в карман. Через три минуты стакан воды, принесенный Дуняшею, был выпит, недописанное письмо запечатано, и Алексей Петрович ехал домой. «Кончать надо, надо кончать!» – вертелось у него в голове. Но он не стал кончать тотчас же после приезда: войдя в комнату и заперев ее на ключ, он бросился, не раздеваясь, на кресло, увидел фотографическую карточку, книгу, рисунок обоев, услышал тиликанье часов, забытых им на столе, и задумался. И просидел, не шевельнувшись ни одним мускулом, до глубокой ночи, до той минуты, когда мы его застали.
Револьвер долго не лез из узкого кармана; потом, когда он лежал уже на столе, оказалось, что все патроны, кроме одного, провалились в маленькую прореху. Алексей Петрович снял шубу и взял было ножик, чтобы распороть карман и вынуть патроны, но опомнился, криво усмехнулся одним концом запекшихся губ и остановился.
– Зачем трудиться? Довольно и одного.
– О да, очень довольно одного этого крохотного кусочка, чтобы исчезло все и навсегда. Весь мир исчезнет: не будет ни сожалений, ни уязвленного самолюбия, ни упрека самому себе, ни людей, ненавидящих и притворяющихся добрыми и простыми, людей, которых видишь насквозь и презираешь и перед которыми все-таки притворяешься любящим и желающим добра. Не будет обмана себя и других, будет правда, вечная правда несуществования.
Он услышал свой голос; он уже не думал, а говорил вслух. И то, что он сказал, показалось ему отвратительным.