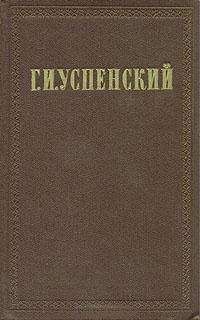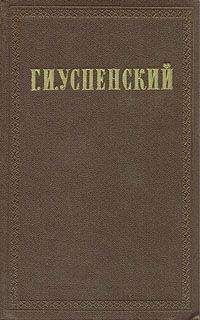— Вре?.. — пролепетал Михаил Иваныч, обрадованный до испуга, и долгое время стоял молча с разинутым ртом, чувствуя, что как будто бы все тело его превратилось в одно сердце, бьющееся от великого счастия, и побежал к Черемухиным.
— Облажено! — пробормотал он и стал сию же минуту собираться в дорогу.
Наде вдруг стало страшно тяжело от этого слова "облажено", от этого счастья улететь из разоренного омута, освежить свою разоренную, бесплодно тоскующую голову.
Не для одного Михаила Иваныча и Черемухиных этот день был чем-то особенным, не будничным, когда люди умирают от скуки, и не праздничным, когда люди могут пить, спят до обморока и смотрят фейерверк в присутствии господина начальника губернии. В нашу глушь, в нашу скуку, беззащитную, брошенную жизнь пришло что-то совсем новое, сулящее лучшее будущее и еще не изменившее нашей тоски, нашего гореванья ни на волос. Не один Михаил Иваныч ни свет ни заря суетился и торопился на машину: весь город был как-то наэлектризован этой новостью, так что когда часов в шесть Михаил Иваныч, сопровождаемый Надей и Софьей Васильевной, пришел в вокзал, здесь уже были толпы народа. Все это двигалось, было весело, собиралось уехать, улететь; ни одной заспанной щеки, ни одних глаз, заплывших от одури, нельзя было встретить среди толпы, бродившей по широким комнатам вокзала. Вся эта суета, пробуждение чем-то горьким отзывалось в сердце Нади; а Михаил Иваныч, в жизни которого события следовали в последнее время с такой быстротой, почувствовал некоторый страх, вследствие чего, попросив барышень поглядеть за узелком, скрылся на время неизвестно куда, а возвратившись через несколько минут, имел лицо весьма радостное.
— То есть вот как обладим дела… — сказал он Наде, тряхнув кулаком.
— Вы водки напились? — вместо ответа сказала та.
— Да, голубчики! — снимая картуз, залепетал Михаил Иваныч: — милые!.. Да как мне не выпить?.. Ангелочки вы мои…
И принялся целовать у "барышень" руки, что хотя и было не особенно заметно среди толпы, однако заставило Надю и Софью Васильевну уйти вперед, на платформу.
Скоро Михаил Иваныч разыскал их и здесь. Но от излияний воздерживался, ибо всеобщее внимание было обращено на лес, из которого с минуты на минуту должен был выпорхнуть первый поезд. В ожидании его шли разговоры. Благородные толковали о том, что теперь представляется удобный случай ездить в Москву, в театр. "Утром выехал, к обеду там; умылся, оделся и марш, а к утру опять дома". — "Великолепно!" Другие, из числа тоже "благородных", смотревшие на это дело глубже, рассуждали о подвозе, о расширении. Простой народ, не имевший возможности понять, что оный подвоз и оное расширение могут образоваться из их дырявых лаптей, трактовал о чугунке кое-что совершенно случайное.
Разговоры публики были прерваны необыкновенно громким криком какого-то сильнейшего горла, раздавшимся откуда-то сверху:
— О-на-а! бра-а-тцы!
Все зашумело, шатнулось и как бы в каком страхе замолкло.
Из глубины просеки темного леса выглянули два красные глаза; донесся жиденький свисток. Это был первый поезд.
— Вот она матушка! — шептал замлевший Михаил Иванович в то время, когда среди всеобщего молчания поезд все ближе и ближе подходил к платформе.
— Ах! голубчики мои милые! — слышалось то там, то здесь.
Поезд пришел и остановился. Молчание сменилось еще более оживленным движением.
Говор. Шум. Смех.
Михаил Иваныч чуть не плакал от радости и беспрепятственно целовал ручки своих спутниц, которые были совершенно подавлены всем, что видели.
— Дай бог вам за вашу доброту! Надежда Андреевна! Софья Васильевна! — бормотал Михаил Иванович.
— Отыщите брата! Пожалуйста! — просила его Надя.
— Под землей вырою-с! На них надежда! Для вас… для маменьки вашей… То есть, господи, боже мой!
И снова начиналось целование рук, даже кофты, в которую была одета Надя. Долго на спине Михаила Иваныча плясал узел с пожитками от поклонов и намерений стать на колени.
Звонок прервал эти излияния.
— Дай вам бог! — крикнул Михаил Иваныч, махнув картузом, и скрылся в толпе.
Затертые толпой, Надя и Софья Васильевна не видали, как Михаил Иванович, высунув голову в вагонное окно, искал их глазами, чтобы еще раз сказать: "Дай бог вам!"
Они слышали, как застучали колеса поезда, раздались свистки; видели, как повисли над платформой и вокзалом черные клубы дыма; видели, как дым побледнел; слышали, как постепенно замолкал и, наконец, совершенно замолк стук и грохот колес.
Поезд выглянул черной массой на новом чугунном мосту, закутал дымом старинную маленькую колокольню маленькой церкви, на которой жиденькие колокола возвещали "третий" звон, и без звука скрылся. Толпа долго стояла и смотрела ему вслед. Многие почему-то вздохнули, потом пошли по домам, и все о чем-то тяжко затосковали.
1
Был душный летний вечер, когда Надя и Софья Васильевна возвращались с железной дороги. Ни той, ни другой не хотелось идти домой в эту лютую скуку, из которой уходят даже Михаилы Иванычи. Надя была крепко грустна и задумчива и не выказывала на этот раз особенной внимательности к горестям Софьи Васильевны; а так как последняя держалась и жила только этим сочувствием Нади и ее внимательностью, то в настоящую минуту и она чувствовала себя совершенно одинокою, подавленною, брошенною. Слезы были близко. Сначала думали они идти ночевать к Печкиным, ибо Софья Васильевна не была дома почти два дня; но мысль о том, какая скука ожидает их в обществе Павла Иваныча, сделала невозможным это намерение. Подумали было идти к Черемухиным, но и там было не веселей: пожалуй, кто-нибудь умер, кто-нибудь отходит. Порешили идти на бульвар: было уже довольно темно, так что простые костюмы не могли конфузить их среди разряженных губернских бар. И пошли в той же тоске и задумчивости.
Но на полпути к бульвару тоска их была во сто раз увеличена нежданным появлением Павла Иваныча. На углу какой-то улицы он наткнулся на них й забормотал:
— Что это? Господи! Ведь это наконец… Что же это такое?
— Мы на железной дороге были! — ответили вместе Надя и Софья Васильевна, почувствовав, что к тоске прибавилось что-то похожее на злость.
— На железной дороге! — воскликнул Печкин. — Вот это великолепно! Железная дорога! Уж ежели железная дорога, так мне и… выпячиваться на нее?
— Мы вовсе не выпячивались!
— Не выпячивались! Вот это еще превосходно! Не выпячивались! Не выпячивались — не выпячивались, а в чем дело? Что такое? Неизвестно!
В дрожавшем от беготни и раздражения голосе Павла Иваныча все-таки слышалась на этот раз некоторая доля радости, должно быть потому, что он отыскал жену, и не в обществе подозреваемых им "любовников". Только этим и можно объяснить, почему он шел вслед за женой и Надей и хотя высказал намерение вернуть их домой, однако пришел вместе с ними на бульвар.
На бульваре играла музыка и происходило обычное провинциальное гулянье. Между темневшими в вечернем сумраке сучьями дерев, в особенности же около небольшого кафе в русском вкусе виднелись разноцветные фонари, освещая то женскую шляпу, то стол с чайным прибором. Липовая аллея, тянувшаяся по низменному берегу реки, около старинной кремлевской стены, была наполнена народом, медленно двигавшимся и весьма скучавшим. Когда замолкала музыка, то в саду наставала почти мертвая тишина; слышался только шум шагов и шлейфов по песку, стук чайной ложечки об край стакана и возглас: "человек!" Скука, составляющая обычное достояние провинциального гулянья, — так как обществу должно же надоесть исключительное занятие одним гуляньем, — эта скука в нынешний "день первого поезда" была как-то упорнее и молчаливее обыкновенной. И можно сказать положительно, что "первый поезд" играл в этой всеобщей задумчивости не последнюю роль. То "что-то новое", сопряженное с ним, та новая власть, как бы понукающая заснувший народ вперед, которая скрыта в этом событии, и другие элементы его, неуловимые, но вломившиеся в наш ум и тронутые им с новою силою, все это как-то отягчало душу всякого, кто только ни гулял, а стало быть, и ни тосковал в этот вечер на этом бульваре. Не один семинарист из числа тех, которые выступают на гульбище поздним вечером и скитаются по задним аллеям, боясь испугать своим халатом, — не один из них чертил в эту минуту планы будущей жизни в Петербурге, куда теперь так легко попасть и в ожидании которого так не легко живется. Не один подгулявший мастеровой, раздумавшись на лавочке около реки о своей судьбе, подумал о том, что: "Была не была, удеру отсюда! Пропадай!" Не одна Надя и Софья Васильевна завидовали участи улетевших из этого мертвого царства. Быть может, это тоскованье и нельзя признать общим; во всяком случае слегка знакомый нам барчук Уткин, находившийся тут же на бульваре, испытывал на себе именно это гнетущее душу содержание нынешнего события. Вялая, тощая фигура его, полулежащая на лавке, едва виднелась в темной тени бузинного куста. Мы рассматривать ее не будем, предпочитая сказать два слова о том, что именно делалось в голове барчука. Чугунка, явившаяся, наконец, у нас, привела его к мысли, что время идет все вперед и вперед, что "дела" с каждым днем все больше и больше. И все это как-то мимо его! Вспомнились ему без толку загубленные галки, выстрелы в собаку, в окно, приказчичья дочь, бесплодная возня с ней в течение полугода, чтение книг великих европейских умов, причем перевертывалось сразу по пятидесяти страниц. Все это необыкновенно грустно подействовало на его душу. Напрасно буфетчик Ларивон Сердоликов, содержавший в саду кафе, вывесил объявление о новой киевской наливке, только что полученной из Петербурга; напрасно только что приехавшая из Москвы камелия Анна Павловна несколько раз прошумела шлейфом около самых его ног и даже закурила у него папироску: — не было никакого желания с горя пойти в буфет и выпить или с горя же пойти за Анной Павловной, с горя спеть хором какую-нибудь соответственную ее салону песню, потратить деньги и потом воротиться в Жолтиково для продолжения мыслей "о подготовке", о приказчичьей дочери, о самоубийстве и о прочем. Ничто не шло в голову; даже денег в кармане Уткина было более обыкновенного, но они как-то слабо пытались вылететь оттуда на этот раз. Не буфета, не Анны Павловны, не выстрела в галку хотелось Уткину, а, напротив, — "дела", по возможности самого бы современного, хотелось ему, чтобы жить и дышать за ним полной грудью. Спустя несколько времени он, правда, пошел и выпил, и даже с Анной Павловной сказал несколько слов, и даже улыбнулся, когда она ударила его зонтиком по плечу; но в конце концов все-таки пришел к прежней скамейке и лег под бузинным кустом. Под влиянием скуки он не замечал ни публики, ни даже того, что около него на лавочку присел, предварительно извинившись, какой-то оборванный мастеровой, с значительным "градусом" в голове, и не слыхал, что он что-то бормотал.