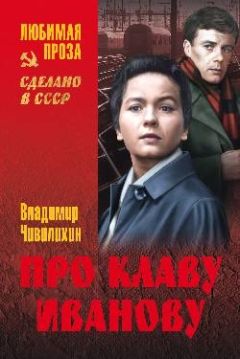И разве не были виноваты в случившемся этот самый инженер по технике безопасности, начальник отдела капитального строительства, сам директор? Вместо того чтобы устранить недоделки в цехах, где было установлено оборудование и уже работали люди, директор хотел до конца года побольше "освоить средств". Дополнительные деньги легче выбить, если есть крыша над головой, и не полностью застекленный, без отопления цех трансмиссий отошел на задний план, потому что везде числился сданным в эксплуатацию. И с доделками никто не спешил - три мальчишки-сантехника потихоньку ковырялись у труб, а стекла не было на складе. Правда, через три дня после несчастья не только в отделах, но и в самом холодном заготовительном цехе было как в бане. Вот так. Я же, думая в те дни о Володе Берсеневе, пришел к выводу, что его вина - лишь следствие безобразного отношения к своим прямым обязанностям всех остальных виновников несчастья.
А план октября завод все же выполнил. Пришла телеграмма от министра. Наш коллектив завоевал второе место во Всесоюзном соревновании и получил денежную премию. Это событие обставлялось торжественно. Вручались знамена, играл оркестр, произносились речи. Правильно, люди здорово работали, "несмотря на тяжелые условия материального обеспечения", как у нас повелось говорить с трибуны. Народ заслужил премию, это ясно. Только после собрания меня все мучительнее стали донимать "вопросы". До конца года на заводе произошло два других несчастья. Первый случай был в конце ноября, второй перед Новым годом. К тому времени я уже убедился, что наши "штурмовые дни" измеряются не только реальными трудовыми успехами, но и человеческими драмами, общим снижением качества работы, умень шением "ходимости" узлов машины, в том числе моих, в которых был материализован мой труд и труд моего соседа по чертежной доске - Игоря Никифорова.
В январе на заводском партийном собрании обсуждались общие итоги работы и планы на следующий, 1964 год. Опять перечислялись премии и грамоты, а я сидел, думая, может быть, чересчур категорично, о том, что эти поощрения, эта поддержка энтузиазма людей как бы затушевывает более важное, служит прикрытием бездеятельности некоторых. Когда наступила заминка, никто не брал слова, я вдруг вскочил с места и пошел на сцену.
Волновался, путался, но сказал, что хотел. Не помню, как ушел с трибуны. Помню одно - сильно хлопали. Потом выступил рабочий с главного конвейера. Он говорил о липовых обязательствах, о том, что никакого соревнования у нас нет - за последние десять дней каждого месяца выполняется шестьдесят процентов задания, что план доделываем даже второго числа следующего месяца, что в эти дни к ним на конвейер посылают слесарей и испытателей из экспериментального цеха. Потом кто-то из мастеров сказал о причинах штурмовщины, о пьянках и пьяницах. В зале еще тянулись руки, но слово взял директор. Сидоров констатировал, что на собрании, дескать, шел серьезный и деловой разговор и ему очень приятны заботы коммунистов о положении на заводе, что партком и дирекция примут все меры...
- Особо я хочу остановиться на выступлении коммуниста э-э-э... (тут ему шепнули из президиума) э-э... коммуниста Крыленко. Конечно, он человек молодой, горячий и немного поспешил, с кондачка называя причины и виновников несчастных случаев. Но в его выступлении было много толкового. Да! Стыд и позор нам, коммунистам, не обеспечившим подготовку завода к серийному выпуску машины! Мы плохо поворачивались летом, не использовали также теплых осенних месяцев. В результате нам несколько дней пришлось работать в неотапливаемых помещениях. Да, потери от брака у нас возросли, и, вероятно, рекламаций на последние партии машин будет много. И как могли мы, коммунисты нашего, правильно тут кто-то говорил, славного предприятия...
И так далее, и тому подобное... Выходило, что м ы виноваты, все виноваты. Мы виноваты в том, что строители были переброшены на другой блок зданий и работа началась в недостроенных цехах; мы виноваты в том, что на заводе нет элементарной дисциплины и даже шоферы садятся за баранку пьяными, а один из них умудрился разбить кузовом своей машины полвагона оконного стекла; мы виноваты в том, что в день получки вторая смена проходит в полупустых цехах;
мы виноваты в том, что в последнюю декаду главный конвейер и все сборочные участки работают круглосуточно, в три смены, хотя завод давно перешел на пятидневную рабочую неделю. Да, и мы виноваты, все виноваты, но ведь в очень разной степени!
И в чем конкретно виноват лично я? Или мой товарищ Игорь' Никифоров? Когда конструировали эту машину, Игорь, как и другие, до позднего вечера сидел у доски, потом не вы-лазил из экспериментального цеха, собирая со слесарями опытные образцы. И почему мы все виноваты в том, что начальник ОТК под давлением директора дал указание ставить на машину гидротрансмиссии с бракованными дисками фрикционов, и эти коробки вышли из строя уже во время заводских испытаний? Ведь если допустить, что все мы виноваты, само собой напрашивается другое логическое допущение-мы все должны отвечать и расплачиваться за ошибки и провалы завода.
В отделе меня никто не осудил за выступление на партийном собрании, даже одобрили, хотя некоторые начали смотреть в мою сторону с каким-то удивлением, как на чудака. Что, интересно, скажет Игорь?
- Слушай, - сказал Игорь. - Это давно всем известно. У директора одна цель и одна возможность удержаться на том служебном уровне, которого он достиг, - дать любой ценой план. Здоровье или тем более самочувствие людей, не говоря уже о долговечности оборудования или о качестве машин, - все это для него второстепенное. И ты тут ни-че-го не сделаешь! Поднимать такие вопросы на уровне конструктора - бессмыслица, напрасный перевод нервов. Для нас с тобой тут проблем нет, пойми...
- Вон ты как!
- Да. Садись-ка ты за доску. Наш узел можно сделать лучше, сам говорил. И тебе будет удовлетворение, и государству выгодно. Учти: быть на своем месте не так просто, но очень нужно...
Он умненький, наш Игорь, рассудительный, только я не думал, что до такой степени. Нет, это не Виль Степанов! С Вилсм мы после института попали на один завод в Энск. Он был такой же рассудительный, но, кроме того,'имел еще запал. Мы с ним поднялись там против Главного, неврастеника и карьериста, но противника нашего перевели на повышение в совнархоз, а мне пришлось уезжать сюда, где все оказалось еще хуже.
Итак, простая, даже банальная истина - "идейно" и с умом делать свое дело. В этом, выходит, смысл философии всей? Минутку! Я ведь делаю свое дело, но почему для меня проблемы там, где Игорю и другим все ясно? От нехватки у меня жизненного опыта? Или от их равнодушия? Конечно, они трезвее меня смотрят на все, и мне тут не хватает Виля Степанова, близкого друга-единомышленника, с которым можно говорить и дела делать. Только он с неба не свалится...
- Это ваш друг попал в беду? - спросил я Симагпна, как мне показалось, в удобный момент - мы остановились, чтобы подождать Котю, который незаметно, отстал, плелся сзади с напряженным и жалким лицом.
Симагин надулся и как-то неохотно ответил:
- Не то чтобы друг, но...
Било непонятно, что значит это "но", и разговор па том кончился, потому что Симагин пошел дальше, а я потянул за ним, думая все о том же.
...С утра у нас в отделе начинается полулегальная "десятиминутка" информация о событиях во Вьетнаме, просмотр заводской многотиражки. Потом ребята немного поговорят о заводских, футбольно-хоккейных, литературных новостях - и за работу. Во время этого традиционного вступления в рабочий день я молчу - современному спорту пока не предан, мало кого знаю на заводе, живу другим, ничего модного не читаю. Думаю, что "Битва в пути", например, будет звучать и через пять лет и через пятнадцать, а между современными писателями и мной есть какой-то непреодолимый психологический барьер. Они пишут не о том, что волнует меня, изображают сегодняшнего человека, особенно "мужичка", не так и не таким, каким я ею вижу, а из молодых многие озабочены, мне кажется, прежде всею тем, как к ним отнесется критика.
Зато целый мир открылся мне в документальной литературе и мемуарах. Объективность этой литературы для меня пока проблематична, но из нее я беру факты, они дают простор мыслям. Началось это с Джона Рида. Раньше он как-то прошел мимо меня, и только тут, на заводе, я взял его в библиотеке по рекомендации того самого Володи Берсенева, с которым случилась беда. Книга, описывающая десять дней, декаду, когда-то потрясшую мир, спустя почти полстолетия, неожиданно потрясает меня. Вот окончил школу, институт, проработал четыре года, но только из этой книги п умом и сердцем понял, что совершил тогда русский рабочий и русский народ, как он это сделал и почему. Эти десять дней я словно жил там...
Вспоминаю, как мы засели за чертежи новой машины. Это было время! Работали с удовольствием, с полной отдачей, даже с вдохновением, можно сказать, если не бояться этого старомодного слова. Один вариант, другой, третий... Вот, кажется, неплохо, как хотел. Но приходит товарищ из соседнего сектора: "Здесь у меня изменение. Будет вот так". Берешь новый лист, начинаешь трещать арифмометром. Ничего, сделаем, по-новому даже лучше будет! Несколько групп конструкторов работали над нашей новой машиной уже давно, а мы с Игорем Никифоровым разрабатывали отдельные узлы, привязывали унифицированные. Замечательная у нас машина получалась! Конечно., на бумаге пока. А когда чертежи пошли в экспериментальный цех, началось!..