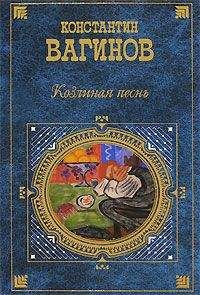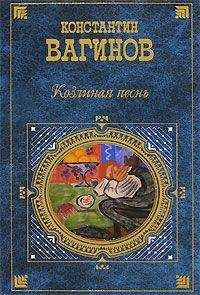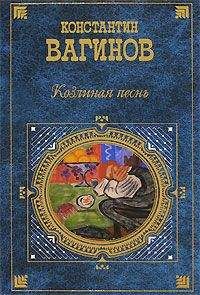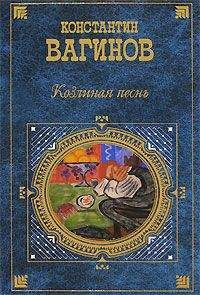Евгений мотнул головой, и губы его задрожали; он закрыл лицо руками.
Как дивно для него засверкал мир!
Зелень засияла своим изумрудным цветом, песок – красноватым, облака – пепельно-голубым, звезды – снежно-золотым, удивительными и прекрасными ему показались люди, и животные, и растения. «Как хорош мир, а я должен его покинуть», – раздавалась музыка в ушах Евгения.
По тонкому ледяному покрову Евгений подошел к сверкающему барочному Эрмитажу, стоявшему на едва заметной возвышенности. Со всех сторон Эрмитаж был окружен амурами. Евгений залюбовался: здесь были толстощекие амуры, украшающие быка цветами; другие – кормящие плодами льва; третьи – собирающие плоды в корзины; четвертые – дружно спящие под звездным небом; пятые – наблюдающие взошедшее солнце; шестые – пускающие бумажного змея; седьмые – кующие стрелы; восьмые – беседующие под тенью фонтана; девятые – предающиеся любви на ложе: амуресса готовится надеть венок, амур несет ей цветы; десятые – собирающие хворост; одиннадцатые – греющиеся у костра, – но в особенности понравились Евгению амуры, собирающие виноград; один рассматривает гроздь, другой наполняет корзину, третий, стоя в огромной бочке, давит с радостным усилием и шаловливой улыбкой зрелую виноградину.
Евгений сел на скамейку и задумался; он вспомнил о Лареньке: она в восторг бы пришла от этого здания. Ему захотелось показать ей то прекрасное, что он увидел.
Вернувшись с прогулки, Евгений вошел в комнату дневного пребывания, сел за пьянино.
Возьми, египтянка, гитару,
Ударь по струнам, восклицай… —
но опять сердце Евгения упало; тщетно он вызывал перед собой трепещущий мир цыганщины, воображал публику в париках и кафтанах, слушающую цыганское пение. Холодный пот выступил у него под мышками и на лбу, думалось о небытии и проклятом уничтожении. Евгений испытывал ужас. До сих пор Евгений ощущал себя вечным, – теперь юноша понял, что это было дивное ощущение. Хорошо жилось юноше с этим ощущением! До сих пор Евгению казалось, что его настоящая жизнь еще не началась, что все это – только пустяк, начало, что главное – впереди. А теперь этот пустяк, случай заместит главное, станет заменой сущности его, Евгения. «Вот и все!» – подумал он, положил голову на клавиши и заплакал.
Рядом с пьянино стоял покрытый серебряной краской экран; над пьянино висел портрет Энгельса, под эстрадой, где стояли пьянино и экран, были нагромождены стулья; внизу сидели за шашечными столиками компании больных, играли в шашки. Немного подальше так называемые костоеды дулись в домино; еще немного подальше – склонялись над шахматами.
У окна больные играли на балалайках, щипали гитары.
Комната общего пользования была светлая, просторная, освещенная двумя матовыми шарообразными лампами: эстрада, на которой сидел Евгений, была задернута черным занавесом, – таким образом Евгений играл и плакал во тьме.
Раздался звонок к обеду.
Юноше уже мнилось, что он стал призраком, что он спустился в другое существование.
Вскоре перед ним появился превосходный суп в узорчатой миске.
Масса воспоминаний охватила Евгения, пока он ел суп и смотрел в миску. Появилась гротескная вселенная его бабушки. Глубокой осенью, когда опадут листья, а стволы увянут, и весной, прежде чем листы начнут развиваться, выкапывала она самые здоровые и сочные корни однолетних растений, разрезала в длину пластинками или в кружки и, нанизав на нитку, развешивала в теплом месте, продуваемом ветром. Благовонные корни гротескная бабушка сохраняла в флаконах из-под одеколона с притертыми пробками. Ребенком Евгений любил рассматривать картинки на этих флаконах; на них тоже по большей части были цветы. Травы и листья душистых растений домашняя кикимора собирала перед развертыванием цветных почек; он помогал ей связывать травы в пучки; другие травы, обладающие тонким летучим веществом, старушка сама истирала в порошок. Комод был полон засушенных листьев; ее мир был – мир цветов, древесной коры, шишек.
Евгению жаль было покинуть мир, где росли баранья трава, волчье лыко, вороний глаз, светляк, козьи рожки, медвежьи пучки, кокорыш, петушья нога, кошачьи шапки, золотые розги, водо-глаз, змеиная трава, песьи вишни, душистые кудри, конская грива, фиалка собачья и медвежий виноград.
Няни разносили пищу; дежурные сестры следили за тем, чтобы обедающие во время еды не разговаривали и тщательно еду разжевывали; за тем же наблюдал прогуливающийся по проходам, останавливающийся у большого дубового буфета дежурный врач.
Няни в белых халатах выпархивали на кухни, неся жаркое на толстых, тяжелых корабельных тарелках.
Позади Евгения за длинным столом сидели женщины.
Евгений иногда оборачивался; взгляд его переходил от одной к другой с полным равнодушием.
Санаторию окружали мачтоподобные ели.
Перед парадным входом стоял бронзовый памятник Ленину.
Несколько в стороне возлежал солярий, закрытый на зиму.
Дальше домики медицинского персонала и канцелярия с покрытыми снегом крышами. Санатория паром великолепно отапливалась; зимой и летом в ней были открыты форточки, и воздух свободно циркулировал по помещению.
Врачи встречали прибывающих, сияя вежливостью.
Сестры предупредительно и ласково объясняли правила поведения, уборщицы озабоченно сновали.
Евгений пошел осматривать помещение.
На стене рядом с курортом на дому висел цветной плакат человек-машина. В просторных помещениях человека-машины работали люди; одни лазали по лестницам, складывали крахмал и сахар; другие подавали; третьи служили привратниками; четвертые мыслили по поводу прочитанного; пятые сидели на деревянных кобылах, шестые снимали аппаратом (глаз); седьмые слушали у телефона (ухо), девушки в голубых и сероватых платьях сидели у аппаратов (нервы); в человеке-машине были проведены голубые и красные трубы, двигались колеса, вагонетки, работали приводные ремни.
Евгений от скуки стал рассматривать это условное и аллегорическое изображение; несомненно, это был очень интересный плакат; цель его была заставить трудящихся запомнить, какие органы что вырабатывают, где они находятся и как действуют; для Евгения этот плакат выражал целое мировоззрение, он мысленно сравнивал его с гравюрами, на которых изображался человек с различными планетами на лбу, на щеках, на груди, на руках и на ногах.
Евгений вошел во вторую комнату дневного пребывания.
Там сверкали зеркалами шкафы для книг; на полированных столах лежали газеты; на одном из шкафов чернел громкоговоритель; на стенах были приколоты лозунги: «Пленникам капитала, борцам за мировой Октябрь, пламенный привет рабочих», «Ударим по рукам провокаторов новой войны – помещиков и капиталистов». На подоконнике среднего окна белели гипсовые бюсты Маркса, Калинина, Фрунзе. Из окон была видна мачта с фонарем; дальше – аллеи из высоких деревьев; дальше – ворота санатории.
Евгений вошел в палату. Белые стены с зеленовато-голубой панелью, крашеный пол, высокое окно, четыре кровати, четыре шкафчика, четыре стула, четыре плевательницы. Эти предметы освещала одна электрическая лампочка, качающаяся под порывами ветра высоко-высоко у потолка.
В 22 часа электричество в палатах гасила дежурная сестра, в 22 часа больные приподнимались на постелях и начинали рассказывать новеллы.
Евгению не спалось.
Он пошел в парикмахерскую, зажег электричество, и, несмотря на мысли о смерти, ему удалось погрузиться в своеобразный мир существ, про которых особым тоном, серьезным и вместе с тем смешливым, сообщалась масса сведений. «Ах, Борри, Борри, – думал Евгений, – итальянский авантюрист, придворный алхимик Христины, искатель философского камня, ересиарх и узник замка св. Ангела, не у тебя ли украл Монфокон мир элементалов? Не у тебя ли он взял этот легкий и смешливый тон? Бедняга Борри! „Граф Кабалис“ затмил твой трактат, комментаторы Гофмана и Франса не подозревают о твоем существовании! И черт знает как в Ленинграде твой трактат попал в мои руки. И вот эта книжечка, пожалуй, опять затеряется после моей смерти, или, может быть, даже ее разорвут, не подозревая о ее содержании.
Ты долго валялась в подвале, затем на миг появилась и теперь должна исчезнуть!»
Он вспомнил о снеговой бабе, замеченной им утром.
Решил завтра ее осмотреть.
Евгений вернулся в палату и уснул. По звонку утром он проснулся, подошел к окну – баба таяла; изящный нос, вылепленный рукой больного скульптора, совсем растаял; темные глаза исчезли, подстриженные волосы еще держались, но овал лица был весь источен мелкими струйками; вчера еще крепкая и пышная белоснежная грудь стала студенистой и серой, а вокруг еще стоявшей, но уже таявшей женщины опять зазеленела травка, зажелтели и засерели листья. Теперь на женщину никто уже не обращал внимания; она стояла, обреченная на истаивание.