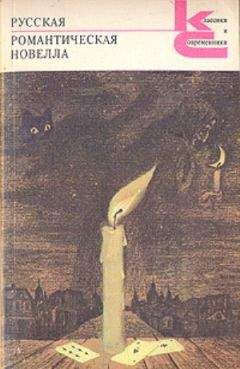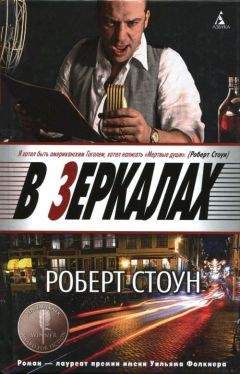Как бы ни было, в наше время свекловица, откупа, многопольная система и пр. заступили место картин, статуй и антиков. Мне скажут: не так ли мы разоряемся на экономии, как наши деды разорялись на искусствах? Нет, господа! В неудачных попытках свекловичного фабриканта я вижу залог будущих успехов; капиталы, обращенные в humus[9] новомодным хлебопашцем, еще не совсем потеряны для детей его. Опытность покупается дорого, весьма дорого; однако цена, какою она нам достается, никогда не превышает благодеяний, получаемых от нее самым отдаленным потомством. Но прошу сказать мне в свою очередь: какую пользу принесли те, кои расточили богатые свои отчины на картинные галереи, на библиотечные редкости, на музеи, единственно для того, чтобы по их смерти, а иногда и при жизни удары аукционного молота раздробили на мелкие части их огромное, но суетное стяжание? Пробудили ль они вкус к изящным искусствам? Образовали ль они художников? Доставили ль пособия ученым? Или, по крайней мере, завещали ль они своим согражданам эти памятники тщеславия и, вместо того чтоб оставлять их жадным и глупым своим наследникам, посвятили ль хотя что-нибудь на общественное употребление? Нет, они не думали об этом; они не разочли, как дешево могли бы купить благодарность потомства, которое забыло бы их блудную расточительность и сохранило бы в незлобной памяти одно благое, одно изящное их поступка.
Покойный граф, подобно многим другим, не рассудил за нужное передать потомству имя свое наряду с именем Демидова; и его
Амуры и Зефиры все
Распроданы поодиночке.
Двор великолепного его дома был весь покрыт экипажами. Многочисленная публика толпилась у входа, на лестнице; в зале, посреди коей был устроен обширный амфитеатр, зрители и покупщики теснились живописными группами вокруг арены, в коей, вместо рыцарей и герольдов, восседал начальник аукциона. Перед ним, на длинном и широком столе, возвышались драгоценные вазы, канделябры, часы, небольшие статуи; по стенам залы висели картины; огромные фолианты лежали грудами на полу; впереди же аукционера, у большого венецианского окна стояли два колоссальных порфирных сфинкса, безмолвные, но грозные свидетели зрелища, которое столь разительно представляло и блеск и суету мира.
Я не застал уже начала: многие вещи были раскуплены. Несмотря на многолюдство, мне удалось найти места на амфитеатре.
Вскоре после меня приехали и Линдины. В это время аукционер возвестил громким голосом о перстне с геммою отличной работы. Глафира просила меня поднести к ней перстень. Голова юноши, вероятно Алкивиада, выдавалась рельефом на белом халцедоне. Бедная девушка нашла в этом изображении большое сходство с милым ее другом.
— Чего бы ни стоило, а этот перстень должен принадлежать мне, — сказала она едва внятным голосом, наклонив ко мне голову. — Уговорите батюшку купить его для меня.
Петр Андреич, по любви родительской, скоро на то согласился. Начался торг. Как нарочно, на перстень нашлось множество охотников; но они надбавляли по безделице, и Петр Андреич стоял твердо в своем намерении. Наконец совместники его замолкли. Молот ударил уже в другой раз: Линдин торжествует, Глафира вне себя от радости. Простосердечная девушка заранее восхищалась своей будущей покупкой, как бог знает каким счастием. Воображение женщины, окрыленное любовию, игриво и своенравно: упадет ли роса на древесный листок и проведет по нем несколько желтых полосок — ей мнится, что само небо начертало нерукотворенный образ ее возлюбленного; нарисует ли облако беглый прозрачный силуэт его, она не сводит глаз с облака; найдет ли она то же сходство в мелькнувшем лице, на картине, на камне — мечтам ее конца нет; она наслаждается обманом, она ловит призрак, как будто существенность.
Линдин вынул уже бумажник и хотел отсчитать деньги, как чей-то голос, будто мне знакомый, выходивший из толпы посетителей, разом надбавил несколько сот рублей…
Зрители онемели от удивления; глубокое, продолжительное молчание последовало за страшным вызовом к аукционному бою. О Глафире и говорить нечего: внезапный страх овладел ею; бледная и безмолвная, она устремила на отца глаза свои, коими умоляла его не уступать противнику драгоценного ей перстня; но Линдин отказался надбавлять цену, и без того уже высокую. Я решился было войти с дерзким невидимкою в торговое состязание и заставить его отказаться от добычи; но кончено: роковой молот ударил в третий раз…
Вдруг Глафира помертвела и тихо опустилась мне на руки… Этот удар, казалось, решил судьбу ее жизни.
Между тем, как мы суетились около нее, незнакомый покупщик расплатился, взял перстень и исчез.
Глафира опомнилась и я, посадив ее в карету, возвратился домой с досадой, с грустию в сердце. Оно было полно темного, зловещего предчувствия.
IV
Вечером, приехав к Линдиным, я был поражен болезненным видом Глафиры и необыкновенною веселостию Петра Андреича. Он не замечал, по-видимому, ни страданий дочери, ни скуки гостей и был занят одним Вашиаданом (Петр Андреич вспомнил наконец имя своего старого приятеля), который приехал прежде меня и успел уже со всеми познакомиться. Если бы не голос его да фиолетовые очки, я не узнал бы в нем важного, таинственного соседа моего по театру: он был говорлив, весел, развязан и нисколько не казался стариком в шестьдесят лет.
Это новое приобретение, как выражался Линдин, утешало его до крайности; он восхищался заранее своим Чацким. Причина его восторга была понятна; но что произвело такое сильное потрясение в Глафире? Уже ли одна неудача в покупке перстня? Она не была так малодушна. Или голос Вашиадана пробудил в ней воспоминание о потерянном друге? Ясно было лишь то, что она скрывала в груди своей какую-то новую и страшную тайну; но изведать оную не позволяли ни время, ни благоразумие. Однако я решился спросить ее, в состоянии ли она играть сегодня. Этот вопрос вывел ее из задумчивости.
— Разве вы почитаете меня больною? — спросила она в свою очередь.
— Не больною, но расстроенною от давешнего… Она прервала меня с живостию: «Не договаривайте; в самом деле, я не знаю, буду ли в силах играть теперь; но, чтоб не огорчить батюшку, постараюсь преодолеть свою робость».
— И будто одну робость? — спросил я испытующим голосом.
— Господа, господа, — провозгласил Петр Андреич, хлопая в ладоши; — что же наша репетиция? Все актеры налицо — начнемте.
Глафира поспешно удалилась, под предлогом приготовления к репетиции. Дамы и кавалеры, участвовавшие в комедии, последовали за нею в залу, где на скорую руку была устроена сцена из досок и размалеванной холстины.
Наконец, посреди жарких споров и совещаний, в коих громогласное я Петра Андреича раздавалось, словно пушечный выстрел во время мелкой ружейной перестрелки, началась репетиция. Уже умолкли звуки моей флейты (читатели припомнят, что я играл Молчали-на) — Софья окончила уже свою nocturne,[10] и резвая служанка, в предостережение барышни, давно завела куранты, а Фамусов еще не являлся.
— Что же, батюшка? — спросила Глафира у отца своего.
Но батюшка заговорился и позабыл о роли. Однако он скоро опомнился и, понюхав табаку, побежал за кулисы. Смело взошел Петр Андреич на сцену, с удивительным присутствием духа открыл рот и — остановился. Напрасно суфлер шептал ему реплику: Петр Андреич стоял неподвижно. Наконец, вероятно для большего эффекта, он ударил себя по лбу ладонью и поспешно сошел в залу.
— Что с тобою, душа моя! — спросила заботливо Марья Васильевна.
— Вообразите, — отвечал он, — я и позабыл, что в хлопотах и приготовлениях не успел вытвердить роли.
— Прочитайте ее по тетради, — сказал, смеясь, Вашиадан, — а впредь будьте исправнее.
— Не могу, почтенный друг; теперь я не найдусь, смешан.
— Но кто же сегодня заменит вас? — спросили разом и Скалозуб, и Загорецкий, и Репетилов, и прочие актеры. — Стало быть, мы собрались понапрасну?
— Если вам угодно, господа, — сказал Вашиадан, — то, чтоб не расстроить репетиции, я беру сегодня на себя и роль Чацкого, и роль Фамусова: они обе мне знакомы.
— Ах, благодетель мой! — воскликнул Петр Андреич и чуть не задушил в своих объятиях услужливого приятеля.
Многие смеялись над хвастливостию Вашиадана и не верили тому, чтобы можно было сыграть вместе столь противоположные роли; но и репетиция разрешила недоумения: игра его превзошла самые взыскательные требования. Вашиадан обладал в высочайшей степени искусством изменять по воле голос, физиономию, приемы: его искусство становилось еще ощутительнее в тех сценах, где Фамусов и Чацкий являются вместе. Зрители забывались и думали, что в самом деле видят два разных лица. В явлении второго действия, когда слуга докладывает о приезде Скалозуба, сосредоточенная язвительность и хладнокровие Чацкого и между тем постепенно возрастающие жар и гнев Фамусова, который, заткнув уши, не хочет и слышать молодого вольнодумца, произвели такое действие на восхищенного Петра Андреича, что он, забывшись, начал махать платком и закричал Фамусову: «Да обернитесь что за бестолковой!»(так в книге)