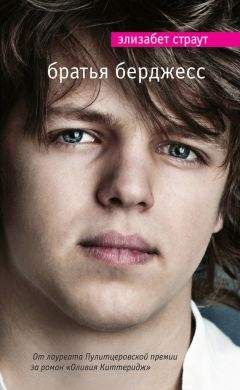1
Центральный парк утопал в спокойных осенних красках: приглушенная зелень травы, бронзовые дубы, нежно-желтые кроны лип, рыжие листья кленов – вот один плывет по воде, другой кружится в воздухе. Но небо было ярко-голубым, а воздух теплым, и окна ресторана «Лодочный домик» у озера в этот вечерний час оставались открытыми; над водой простирались полосатые навесы. Пэм Карлсон сидела у барной стойки и наблюдала за тем, как взмахивают веслами люди в немногочисленных лодках. Все вокруг напоминало ей замедленную съемку, даже бармены, которые работали с неспешной уверенностью – мыли бокалы, смешивали мартини, вытирали руки о черные фартуки.
А потом вдруг раз – и в баре стало многолюдно. В двери хлынула целая толпа: бизнесмены, на ходу снимающие пиджаки, женщины, встряхивающие волосами, слегка ошарашенные туристы – мужчины несли рюкзаки с бутылками воды в сетчатых боковых кармашках, как будто весь день лазали по горам, а за ними шли растерянные жены с картами и фотокамерами.
– Нет, тут сидит мой муж, – сказала Пэм, когда немецкая пара попыталась забрать высокий стул, стоящий рядом с ней. Положив на стул сумочку, она добавила: – Извините.
Годы жизни в Нью-Йорке многому ее научили. Например, искусству параллельной парковки или тому, как заставить таксиста, у которого закончилась смена, отвези тебя куда надо, или тому, как вернуть в магазин товар, который возврату не подлежит, или тому, как твердо и решительно произнести: «Тут очередь!» – когда кто-то пытается бесцеремонно прорваться к окошку на почте. На самом деле жизнь в Нью-Йорке, думала Пэм, копаясь в сумочке в поисках телефона, чтобы узнать, который час, это блестящая иллюстрация древней мудрости, известной величайшим генералам в истории, – побеждает тот, кому больше всех надо.
– «Джек Дэниэлс» со льдом и лимоном, – сказала она бармену, постучав по стойке рядом со своим бокалом вина, к которому не успела притронуться. – Для моего мужа. Спасибо.
Боб, как всегда, опаздывал.
Ее настоящий муж должен был вернуться домой лишь через несколько часов, сыновья ушли на футбольную тренировку, и никого из них не волновало, что она встречается с Бобом. Дети называли его «дядя Боб».
Пэм пришла в бар сразу из больницы, где по две смены в неделю работала администратором в приемном покое. Ей бы хотелось пойти вымыть руки, но она понимала, что если встанет, место тут же займут немцы. Ее подруга Дженис Бернстайн – которая когда-то училась в медицинском институте, но бросила – говорила Пэм, что после работы нужно первым делом мыть руки, ведь больницы – это буквально чашки Петри для всяких бактерий, и Пэм была с ней полностью согласна. Несмотря на частое использование обеззараживающего лосьона (от которого сохла кожа), мысль о притаившихся микробах заставляла Пэм нервничать. Дженис говорила, что Пэм вообще слишком много нервничает, надо как-то себя контролировать – не только ради собственного комфорта, но и чтобы не выглядеть навязчивой, это не круто. Пэм отмахивалась – мол, в ее возрасте уже не принято волноваться о том, что круто, а что нет; впрочем, положа руку на сердце, это ее волновало. В том числе и поэтому она всегда с удовольствием общалась с Бобби, уж он-то был насколько некрутым, что на существующей в сознании Пэм шкале крутизны занимал свою собственную отдельную позицию.
Свиная голова. Господи боже…
Пэм поерзала на стуле, пригубила вино.
– Давайте лучше двойной, – попросила она бармена, взглянув на бокал виски, который тот поставил на стойку.
Когда они говорили по телефону, Боб был сам не свой. Бармен забрал виски и заменил его двойной порцией.
– Да, и открывайте счет, – сказала ему Пэм.
Много лет назад, когда они с Бобом еще не развелись, она работала ассистентом паразитолога, который специализировался на тропических болезнях. Пэм целыми днями сидела в лаборатории, рассматривая клетки шистосомы в электронный микроскоп, – и оттого, что она любила факты, как художник любит цвет, оттого, что испытывала тихий трепет перед точностью, к которой стремилась наука, временем, проведенным в лаборатории, она наслаждалась. Когда Пэм услышала в теленовостях про события в Ширли-Фоллз, увидела имама, идущего от устроенной в обыкновенном доме мечети по жутко пустой центральной улице, ее захлестнула целая волна чувств, и не в последнюю очередь ностальгия по когда-то знакомому ей городу, а потом – почти сразу – беспокойство за сомалийцев. Она поспешила удостовериться, и ее подозрения подтвердились: в моче беженцев из южных районов Сомали находили яйца кровяных шистосом, хотя куда более серьезной проблемой – что ничуть не удивило Пэм – была малярия. Перед тем как гражданам Сомали разрешали въехать в США, им давали однократную дозу сульфадоксина-пириметамина от возбудителей малярии, а также альбендазол от кишечных паразитов. Но куда больше Пэм обеспокоил другой факт: среди сомалийских банту – людей с более темной кожей, потомков рабов, привезенных в Сомали из Танзании и Мозамбика несколько веков назад, которых из-за этого подвергали остракизму – уровень заболеваемости шистосомозом был гораздо выше и, согласно данным Международной организации по миграции, наблюдались серьезные проблемы психического характера, связанные с пережитой травмой и депрессией. В бюллетене организации также говорилось, что среди банту распространены некоторые суеверия: они прижигают огнем кожу, пораженную болезнью, и вырывают молочные зубы детям, у которых случился понос.
Когда Пэм читала об этом, да и сейчас, когда она это вспоминала, ей в голову закралась мысль: «Я живу не своей жизнью». Эта мысль взялась ниоткуда. Да, Пэм и правда скучала по атмосфере лаборатории – запахам ацетона, парафина, спирта, формальдегида. Скучала по свисту горелки Бунзена, предметным стеклам и пипеткам, по состоянию особой, глубокой сосредоточенности, в котором пребывали все вокруг. Но теперь Пэм растила мальчиков-близнецов – с белой кожей, прекрасными зубами, безо всяких ожогов, – а лаборатория осталась в прошлом. И все же, читая о паразитологических и психологических проблемах беженцев из Сомали, Пэм ощутила тоску по другой жизни – жизни, которая не казалась бы ей до странности чужой.
Теперь дни ее вращались вокруг дома, сыновей, частной школы,