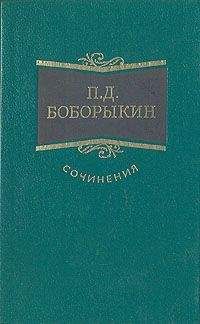— Вы сами сидите, как крот в норе своей, до той минуты, когда я вас извещу: куда и к какой особе отъявиться. Коли будет экстренная надобность, то пущу вам депешу, и вы с точностью Брегета — являйтесь; слышите, государь мой?
Все это Лука Иванович старался хорошенько запомнить и, мечтая о том, как он отделает две пустые комнаты, усиленно думал о Проскудине, его практичности и готовности порадеть за приятеля. Тогда можно будет кабинет перенести в бывшую спальню Анны Каранатовны, кровать поставить в Настенькину комнату, а теперешний кабинетишко превратить в столовую. Двух месяцев на прочном месте достаточно, чтобы иметь широкий кредит на Апраксином.
Но на другой же день, по привычке, вошел он в комнату Анны Каранатовны, и вид пустых, полинялых стен, с пятнами от мебели, навел на него невыносимую тоску: точно будто он похоронил покойника и пришел в его холодный и пустой склеп. Заглянул он в такую же ободранную комнату Настеньки. Она чуть не довела его до слез. Тут он действительно почувствовал, какая неугасимая потребность в нежности теплилась в нем под его петербургской оболочкой. А на кого изливать ее? Не на Татьяну же!.. Без Настеньки он еще язвительнее почувствовал то надсадное холостое чувство, которое, собственно, и привело его к сожительству с брошенной матерью Настеньки. Не мог он ни с кем и поделиться своей потерей. Мужчины, даже самые лучшие, или циничны, или черствы, или слишком заняты собой. А новая «воспитанница» Луки Ивановича стояла особо. Не мог же он начинать с нею такою исповедью!.. Почему не мог? Таково было его чувство. Он ставил эту «воспитанницу» если не выше своего житья-бытья, то в стороне, в более изящной перспективе. Да и не знал он, раздумывая о том, что слышал от Елены Ильинишны: полно, можно ли найти в ней отголосок таким потребностям. И как ей было удовлетворить их? Ведь она сама не заменила бы ему Настеньки… В ней было нечто совсем иное; а это «нечто», быть может, и позволит Луке Ивановичу стряхнуть с себя тоску и не засиживаться в пустом «логовище». Его влекла та квартира, где его обещали ждать, как друга, где начиналась уже жизнь, которую он тесно связывал в своем воображении с новой своей житейской долей, с достатком, со свободой и отрадой умственного труда.
"Как мало ушло, в сущности, времени, — думал Лука Иванович, сидя в убогих извозчичьих санишках, — а как долго оно длилось; ведь вздор-то какой говорят и пишут, что когда хорошо живется — дни летят быстрее молнии! Совсем-то напротив: прошло каких-нибудь десять дней, но они были наполнены — вот и кажется, что жил больше месяца".
Эти десять дней считал он с того дня, как остался один после переселения Анны Каранатовны. Редкий день не видался он со своей «воспитанницей»: то до обеда завернет, то ранним вечером, то поздним… Он точно будто уже целые годы знаком с нею. Каждое свидание, каждый разговор приносили все новые ощущения «наставнику». В даровитости и блеске натуры он сразу убедился. Вопросы жизни эта женщина умела ставить хорошо, просто, смело, с беспощадной правдой. Но самая ее личность ускользала от него незаметно и упорно. Придет он с целым рядом вопросных пунктиков, иной раз даже запишет их на бумажку, хочет к ним подобраться — а беседа потечет совсем по другому руслу. Юлия Федоровна искренно слушает его, говорит так ярко и ново для него, не затрудняется никакими щекотливыми оборотами разговора, и все-таки он не может ее схватить и поставить лицом к лицу с главным вопросом: хочет она жить по своим лучшим упованиям или будет отдаваться все той же масляничной сумятице, без цели, без влечения, без поэзии, даже без загула?..
А он видел, что сумятица продолжается; да и она не скрывала ее. Только она не могла останавливаться на этой теме, а проповедей Лука Иванович сам усиленно избегал. Ни разу он не взял фальшивой ноты увещания "ни с того ни с сего". И про себя ему не пришлось говорить с полной сердечностью: слишком он переполнен был своей воспитанницей. Даже ничего житейского толком не знал еще он про Юлию Федоровну. Ее рассказы были скорее отрывочные куски воспоминаний или, лучше, суждений, взглядов, веселых или довольно едких выходок против самой себя… Соображал он только, что она была замужняя женщина, а может быть, и вдова, что ей знакомы и материнские чувства, что когда-то она была тихенькой и по-барски строго сдержанной «дамочкой» и, проехавшись по Европе, ничего в ней, кроме модных фасонов и хороших манер, не приметила. Были ли у нее семья, обязанности, горе, страхи, надежды — он решительно не знал и чувствовал, что необычайно трудно ему навести ее на такие беседы, хотя она ничего не бегает и ни от чего не уклоняется. Одно было ясно, что живет она независимо, на свои средства, без всякой заботы о том, на что и сколько ей еще так жить, проживает много, вероятно, втрое больше, чем казалось ему, хотя домашняя ее обстановка не отзывалась вовсе очень большими расходами.
Так точно и в деле «интересов» и "серьезных стремлений", ни на какой зарубке поглубже она с ним еще не остановилась. Женские идеи она всегда весело и забавно связывала с «делом» своей кузины, девицы Гущевой; жалела она ее, «бедняжку», без всякой злобности, уморительно рассказывала, как та корпит над своими рукописями; намекала на то, что ей делали разные предложения со стороны — войти то в то, то в другое, устраивать с другими женщинами "разные разности". Намекала, но ни разу ничего не коснулась ближе. Наконец, поиски «человека», какого ей нужно, принимали в ее рассказах тоже характер каких-то забавных картинок. Раз начала она рассказывать, как прежде, года с два тому назад, хотела собрать к себе в гостиную «избранный» кружок мужчин, хлопотала об "умных людях", но не хотела лишать себя и военных, и как этот кружок разделился тотчас же на два враждебных стана: штатские, особливо с талантиком, стали придираться к военным и говорить им колкости, военные отмалчивались и потом выговаривали ей на утренних визитах. И так живо представила все в лицах, что
Лука Иванович просмеялся целый вечер без умолку.
И точно боясь, чтобы он не перебил ее и не поставил перед ней рокового вопроса о "души спасеньи", она последнюю их беседу кончила тем, что проговорила ему с тихой улыбкой, полузакрыв глаза:
— Вы знаете, хороший мой Лука Иваныч, все, что я вам болтала… это там, позади. Я вам сдаю в архив мои старые грехи. Без этого нельзя, надо все бумажки очистить — ведь так, кажется, говорят в канцеляриях?
Он и верил, подъезжая на другой день поздним вечером к Сергиевской, что "все прежнее сдано в архив", что «очистка» прошлого уже кончилась. Ни разу не приметил он какой-нибудь подкладки под ее живыми и правдивыми речами, от которой ему сделалось бы жутко. А что в нем самом назрело за эти десять дней, он лишней минуты не имел, чтобы заглянуть туда, разобрать это… да и не хотелось ему ничего разбирать. Он продолжал только связывать с своим новым «устройством» то «нечто», которое начнется после "сдачи старого в архив". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Юлия Федоровна просила вас подождать, — доложила горничная Луке Ивановичу, как своему человеку. — Они непременно будут к десяти часам.
— Хорошо, — спокойно отозвался он и, увидав, что на вешалке чернеет мужское пальто, спросил: — А у вас кто-нибудь есть?
— Есть-с, господин Пахоменко… вы изволите их знать… они тоже дожидаются…
Обо всем этом горничная докладывала, как о самой обыкновенной вещи в обиходе Юлии Федоровны.
— Барышни, — продолжала она, — тоже нет, они в театре.
— Елены Ильинишны? — пояснил Лука Иванович.
Он был так хорошо настроен, что и беседа с Еленой Ильинишной не смущала его. Она совсем стушевалась за эти десять дней, появлялась на три-четыре минуты, точно строго исполняя свой уговор.
Скульптора Пахоменка он, после первого знакомства с ним, видел мельком во время утреннего визита. Ему его ленивая фигура нравилась. Он не искал уединенного свидания в этот вечер. Пахоменка не счел он скучной помехой; а на то, что Юлия Федоровна просила посидеть и подождать ее после 10 часов, посмотрел как на самую простую вещь.
"Отгуливает свою масляницу", — подумал он и с улыбкой вошел в салон.
В нем стоял полусвет от лампы с абажуром. В яркий круг, лежавший на столе, вошла голова гостя, упершего ее в ладонь правой руки; ногти левой он усиленно грыз и сосредоточенно смотрел на одно из окон, выходивших на улицу.
В глаза Луке Ивановичу бросилась особенная тревога этого молодого, природно-апатичного лица: так могли глядеть глаза только у человека, охваченного едким и сильным душевным движением.
Он так был поглощен, что не слыхал шагов Луки Ивановича. Тот должен был его окликнуть.
Художник вскинул голову, тотчас же встал и почти радостно протянул руку.
Лука Иванович не мог себе объяснить тут же, почему этот посетитель салона Юлии Федоровны почувствовал такое облегчение от его прихода.