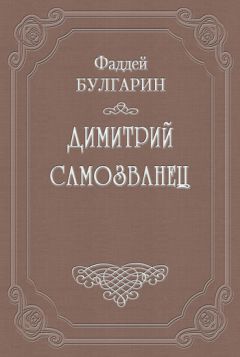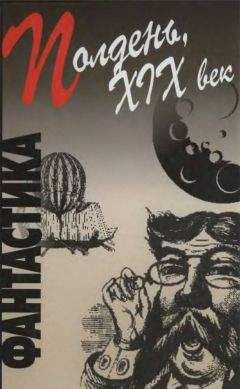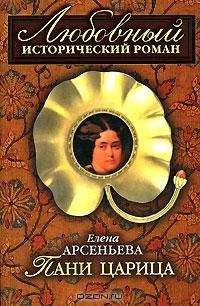К лавке подошел мещанин средних лет в смуром кафтане, снял шапку, поклонился низко купцу и сказал:
– Челом бьем батюшке Федору Никитичу!
– Ну, как поживаешь, все ли подобру-поздорову, сосед? – промолвил в ответ купец, кивнув головою.
– Все не счастливится, отец родной, – сказал мещанин. – Вот было срядился ехать в Углич за товаром, да приключилась беда, так и остался дома без работы.
– Не гостил бы, брат, по кружалам, так не было бы и беды. Я слыхал, что ты сидел две недели в Приказе тайных дел и был допрашивай по "слову и делу".
– Грех да беда на кого не живет, – отвечал мещанин, тяжко вздохнув. – Ах, отец родной, страшно и вспомнить!
– Да как же вы выпустили-то молодца, который осмелился поносить святое царское имя? Видно, хмель подкосил вам ноги? Ведь вас было пятеро, а он один.
– Стрелец Петрушка Лукин и погнался было за ним, да он ушел в тесноте. К тому ж и дело-то было в сумерки, – сказал мещанин.
– Да из чего ж этот озорник вздумал бранить царя? Как пришло это к речи? Уж, верно, вы сами как-нибудь да связались в побранку с молодцем или стали стращать? – сказал купец.
– Нет, батюшка, мы говорили про себя и даже не видали его, а он сам вдруг взбеленился ни к селу, ни к городу, – отвечал мещанин.
– Что ж он говорил про царя? В чем упрекал его? – спросил купец.
– Виноват, грешный; прости батюшка, перед тобою не утаишь, – сказал мещанин. – От страху мы не сказали в приказе, что было говорено, да и спрашивали одного стрельца Петрушку, а нам только велено подтвердить допрос, и то однажды. Ох, родимой, страшно подумать, что сказал молодой парень в кружале; не то чтоб худое про царя, а дело великое.
– Поди-ка со мной наверх да расскажи все, как было, – сказал Федор Конев. – Не бойся, говори правду; ты знаешь, что я не доведу тебя до беды, а разве вытащу из беды, когда можно. – Мещанин низко поклонился купцу, и они пошли в верхнее жилье.
Чрез полчаса Федор Конев возвратился в лавку. Он был бледен, и на лице его приметно было смущение.
– Ну, ступай с Богом домой, – сказал он мещанину.
– Да ведь я пришел к тебе за своим делом, отец родной, – сказал мещанин, низко поклонясь. – Твои обозы пойдут к городу Архангельску по первому зимнему пути: не дашь ли мне местечка, кормилец? Придется жене и детям сидеть зиму голодом, если ты не пособишь. Ведь я уже служил тебе во обозных приказчиках, и ты всегда оставался доволен.
– Хорошо, хорошо, – отвечал купец, – теперь мне не досужно; приходи в другое время, в средине недели. Я дам тебе место.
Мещанин поклонился и пошел домой. Федор Конев сел на скамью и погрузился в думу.
В это время подошел к нему купец из Скорнячного ряда, Семен Ильич Тараканов, старинный Друг его и ровесник.
– Что призадумался, кум? – сказал Тараканов, ударив Конева по плечу. – Слыхал ли ты вести?
– Вести, какие? – спросил торопливо Конев.
– Говорят под рукою, будто царевич Димитрий Иванович не убит в Угличе, а цел и невредим.
– Господи, воля твоя! Что ты говоришь, кум? Знаешь ли, что за это можно поплатиться головою? – сказал Конев.
– Ведь не я его убивал, не я и воскрешал, – возразил Тараканов. – Сын мой, Мишка, твой крестник, ходил к празднику в Александровскую слободу; там он загулял с приятелями, и за чарою меду крылошанин Чудова монастыря Мисаил Повадин, тот самый, которого дядя торговал в Железном ряду, сказал им за тайну, что царевич Димитрий жив.
– Мисаил Повадин! знаю его, только нельзя ему много верить, – возразил Конев. – В мирянах он был человек распутный, а как видно, и теперь не к добру ходит к праздникам. Только это не его выдумка, а есть тут что-то мудреное. Мисаил Повадин! Как можно открыть такое важное дело этому человеку! Впрочем, один Бог знает, как дела делаются: и по заячьему следу доходят до медвежьей берлоги. Где же находится царевич – если он жив?
– Мисаил не сказал этого. Он говорит только, что слышал это от своей братьи, – отвечал Тараканов.
– Если весть эта дойдет до царя, то будет много беды. Не пропустят этого без розыска, а попасться в руки приказных – не оберешься хлопот! Я советовал бы тебе молчать, кум, да и сыну приказать, чтоб он держал язык за зубами, – сказал Конев.
– Да ведь Мисаил говорил не одному Мишке, а целой беседе за кружкою: так этого не утаишь, – возразил Тараканов.
– Правда твоя! Уж лучше выдать этого Мисаила; пусть его отвечает один за всех, – сказал Конев.
– Ну, а как он говорит правду, так подумай, кум, какой грех возьмем на душу, изменив царевичу законному! – возразил Тараканов.
– Какая тут измена, когда нам никто не поверял за тайну и никто не требовал крестного целования? – сказал Конев.
– Да ведь мы прежде целовали крест всему царскому роду и присягнули на верность Борису Федоровичу потому только, что царское племя извелось на Руси, – отвечал Тараканов. – А если царевич жив, так и мы его, а не Борисовы.
– Пустое мелешь, кум! И без царевича Димитрия были ближние роды боярские и княжеские к царскому престолу. Бориса Федоровича выбрали собором, патриарх благословил его, мы целовали крест, так и дело с концом, – сказал Конев.
– Нет, куманек. Я хоть и не силен в книжном деле, а слыхал с ребячества от умных людей, что царей избирать волен один Бог, а не мы, грешные, – отвечал Тараканов.
– Нет спору! Да ведь Господь Бог посадил Бориса Федоровича на царство, так наше дело сторона, – возразил Конев.
– Оно так! Да посмотрим, что будет, – сказал Тараканов. – Уж когда царевич в самом деле жив, так быть великой смуте!
– Да, если он подлинно жив, так не попадайся… но я дал бы дорого, чтоб не знать и не слыхать этих вестей, – сказал Конев.
– Правда, и меня мороз по коже подирает, как я подумаю об розысках, следствиях, расспросах, вопросах, пытках, как было в то время, когда разнеслись вести, что царевич не сам себя убил, а что извели его злодеи по приказу… Ну, уж обрадуются наши дьяки да подьячие! Ох, это крапивное семя!.. Они радуются всякому злому умыслу, как доброму урожаю. Беда православным – их товар, с которого они берут барыши. Недаром поп Никита говорит, что, если б царь прогневался на месяц, зачем не светло светит, то они и месяц на небе ободрали бы зубами, как липочку. Был я у них в руках, лукавый их побери! Вот от того моя кручина, чтоб вести не разнеслись да не пошли снова розыски да обыски! Тогда приказные нападут прямехонько на тех, кто побогаче да послабее, как голодные волки на жирных овец.
– Не бойся! Царь Борис Федорович страшится не нас, а своих бояр. От них-то, думаю я, и эти вести, и вся беда, – отвечал Конев.
– Да ведь царь-то не сам станет узнавать да спрашивать, – возразил Тараканов. – Подумай хорошенько, куманек, что делать? Ведь я пришел к тебе за советом, – сказал Тараканов.
– Утро вечера мудренее, – отвечал Конев. – Новое солнышко принесет новую мысль и совет.
В это время подошел к разговаривающим монах, перекрестился пред образом, поклонился купцам и, вынув из-под рясы кадильницу, подал Коневу и сказал:
– Архимандрит кланяется тебе, Федор Никитич, и посылает отцовское благословение. Вели починить это кадило на счет казны монастырской.
Конев принял кадило, отвечал поклоном и сказал:
– Здорово ли поживаешь, отче Леонид? Тебя давно не видать.
– Я отлучался из Москвы по делам монастырским, – отвечал монах.
– Вот то-то и беда, что ваша братья ищут более дел за стенами монастырскими, нежели в ограде! Не к тебе речь, отче Леонид, но чернецы вашего Чудова монастыря любят разглашать вести, которые иногда могут довести православных до соблазна, до греха и до беды!
Монах пристально посмотрел на обоих купцов и заметил смущение на лице Тараканова.
– Добрые чернецы не разглашают пустых вестей, – сказал Леонид, – а если пускают в народ вести, то справедливые, с соизволения Божиего.
– Слышишь ли, кум? – сказал Тараканов.
– Нет, отче Леонид, – возразил Конев. – Иногда и монашеские вести похожи на сказку. Например, если б кто тебе стал рассказывать, что умерший и погребенный восстал из могилы?
Леонид хотел что-то сказать, разинул рот и остановился. Потом, посмотрев проницательно на Конева, сказал:
– А давно ли ты, Федор Никитич, стал сомневаться в силе Господней, творящей чудеса по произволу?
– О, я не сомневаюсь в чудесах и знаю, что сам господь Бог наш, Иисус Христос, воскрешал из мертвых и запечатлел святую нашу веру своим воскресением; но здесь дело не о чудесах, а просто о делах человеческих… Как бы тебе сказать… Например, если б тебе сказали, что блаженной памяти царь Феодор Иванович, которого мы со слезами схоронили в могиле, воскрес или вовсе не умирал. Что бы ты сказал тогда?
– Что всякое дело возможно и что мудростию человеческою нельзя постигнуть промысла Всевышнего. "Мудрость бо человеческая буйство у Бога есть", как гласит Писание, – отвечал Леонид, смотря в лицо купцам, которые поглядывали друг на друга с беспокойством и смущением.